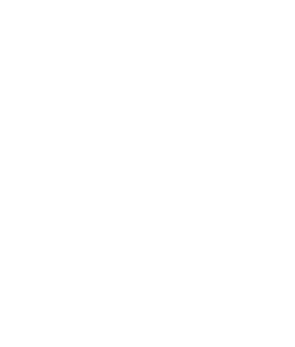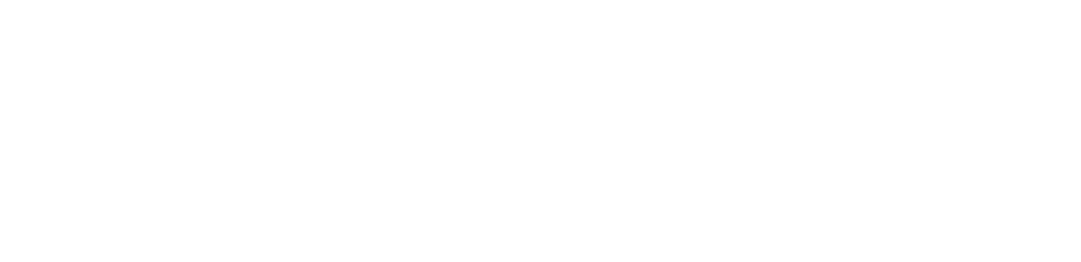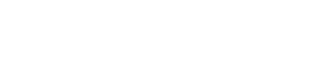Новые
«повести Белкина»
«повести Белкина»
Новые
«повести Белкина»
«повести Белкина»


В 2022 году в Некрасовке проходил семинар по проектированию событий «Собрание сочинений. Том 2». Результатом работы семинара стал фестиваль одной книги — он был посвящён «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина» Александра Сергеевича Пушкина.
В 1937 году великой книгой вдохновился писатель Михаил Зощенко: он опубликовал шестую «Повесть Белкина». И специально для фестиваля мы предложили современным писателям — Павлу Пепперштейну, Роману Сенчину и Алексею Сальникову — сделать то же самое.
Здесь вы можете прочитать новые повести и послушать аудиоверсию в исполнении актёра театра и кино Сергея Епишева и театрального режиссёра Виктора Рыжакова, а также посмотреть премьерные читки повестей на фестивале. Электронная и аудиокнига доступны бесплатно в книжном сервисе «Строки» от МТС
В 1937 году великой книгой вдохновился писатель Михаил Зощенко: он опубликовал шестую «Повесть Белкина». И специально для фестиваля мы предложили современным писателям — Павлу Пепперштейну, Роману Сенчину и Алексею Сальникову — сделать то же самое.
Здесь вы можете прочитать новые повести и послушать аудиоверсию в исполнении актёра театра и кино Сергея Епишева и театрального режиссёра Виктора Рыжакова, а также посмотреть премьерные читки повестей на фестивале. Электронная и аудиокнига доступны бесплатно в книжном сервисе «Строки» от МТС

Предисловие
-
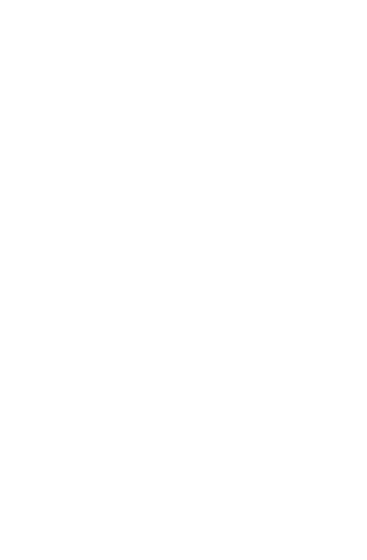 Мария Приваловакуратор проекта
Мария Приваловакуратор проекта
Летом прошлого года полторы дюжины взрослых людей — сотрудников библиотеки, их друзей и просто отозвавшихся на приглашение горожан — стали собираться раз в неделю в Библиотеке имени Николая Алексеевича Некрасова. Они думали, формулировали, слушали, спорили и очень много смеялись. Это был семинар «Собрание сочинений», семинар по придумыванию «фестиваля одной книги» — так определили мы формат сочиняемого события.
Эта мысль занимала меня не один год. Любимые книги — это то, с чем ты живёшь и видишь их отражение в мире вокруг, а ещё это то, что живёт в тебе. Книги — они ведь живые.
Первые встречи семинара были посвящены выбору той самой единственной книги. Первый тур — короткие предвыборные программы и голосование. Второй тур — две книги, бурное обсуждение и снова голосование. Поражение потерпела набоковская «Защита Лужина», а победили «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» Александра Сергеевича Пушкина.
Я была рада такому результату — но даже предположить не могла, насколько это на самом деле будет счастье.
Оказалось, что пять коротеньких повестей и главка от издателя будут источником очень радостного процесса.
Участники делали самые разные презентации — о правилах дуэли, особенностях мундира капитана Копейкина и спроса на различные виды дерева для гробов, о том, почему русские писатели мрачные и Пушкин, выходит, бунтарь русской литературы. Говорили о литературных играх и шутках повестей, обсуждали наслоения рассказчиков, анализировали недостатки в характере Самсона Вырина.
Много спорили о дуэльных правилах и о том, насколько позорным следует считать второй первый выстрел соперника Сильвио.
Говорили о сомнительности семейного счастья, основанного на притворстве и непогоде.
Одна из наших семинаристок сделала полноценное исследование серий гравюр по притче о блудном сыне, чтобы предположить, какие именно висели на стенах домика станционного смотрителя.
А ещё мы старались понять, как же так выходит, что в повестях столько для нас, скромных читателей, счастья.
На первом же обсуждении мы решили, чего для нашего фестиваля хотим — и хотим обязательно.
Дело в том, что к столетию со дня смерти Александра Сергеевича, в 1937 году, Михаил Зощенко опубликовал «Шестую повесть Белкина» под названием «Талисман».
Зощенко писал пародии на современников — Замятина, Шкловского, Чуковского и других. Чуковский называл их учебными экзерсисами в области литературной стилистики, позволившими Зощенко вырабатывать собственный стиль, тренировать свою чуткость к интонациям речи. Говорят, такая игра с Пушкиным далась Зощенко нелегко.
Предваряя «Талисман», Зощенко пишет так: «Мне казалось (и сейчас кажется), что проза Пушкина — драгоценный образчик, на котором следует учиться писателям нашего времени. Занимательность, краткость и чёткость изложения, предельная изящность формы, ирония — вот чем так привлекательна проза Пушкина».
Нам эти слова показались очень верными — и совсем не устаревшими. И мы решили продолжить затею Зощенко сами. Мы отправили письма с приглашением написать новую повесть Белкина разным русским поэтам и писателям. На наше приглашение ответили согласием трое — и так сложился состав авторов этого сборника: Павел Пепперштейн, Алексей Сальников и Роман Сенчин.
Мы не требовали обязательных художественных решений. Просто предлагали подумать, что за повесть они могли бы написать именно как продолжение «Повестей Белкина»: то есть у нового текста должна быть какая-то проявленная, важная автору связь с оригиналом — а уж какая она будет, авторы решали сами.
Было только одно формальное ограничение — новые повести не должны быть короче пушкинских. Поэтому нижнюю планку задали «Гробовщиком», он самый короткий, — и в новых повестях должно было быть не меньше 13 000 знаков.
Ещё мы формально подошли к названиям и порядку новых повестей — расположили их в порядке получения готовых текстов.
Поэтому седьмая повесть Белкина, после шестой зощенковской, оказалась повестью Павла Пепперштейна, он успел обогнать двух других писателей.
Авторы новых повестей подошли к делу совершенно по-разному:
Павел Пепперштейн, рассказывая об этом опыте, предлагает теорию о том, что, выбрав своим альтер эго Белкина, Александр Сергеевич определил свою жертвенную судьбу: Белкин — это белка, так Пушкин из «пушки» стал «пушниной». Итог — некритичная игра со стилем, сказками, позапрошлым столетием. И получилось «Дупло».
Алексей Сальников стилизует старательно: девятнадцатый век, внезапный поворот сюжета, оптимизм по отношению к невестам — про невест это не мы придумали, Алексей сам так говорит.
Среди достоинств оригинальных повестей Сальников подчёркивает важное свойство пушкинских текстов: несмотря на предсказуемость (и потому, что в «Метели», например, легко предугадываешь счастливый финал, и потому, что все мы знаем, чем дело кончится) — так вот, несмотря на предсказуемость, читатель всё равно получает огромное удовольствие.
Роднит Сальникова с главным автором и человечное отношение к собственным героям. Сальников вообще к своим героям относится с пониманием, но «Упрямец» ещё и получился безоговорочно доброй историей.
А вот Роман Сенчин не пошёл в девятнадцатый век — он говорит о реальности, и говорит сегодня. Сам Сенчин связь с «Повестями Белкина» видит через два ключевых элемента своей повести: тему русского офицерства и разговор о маленьком человеке, — в этом Сенчин видит связь своего «Капитана запаса» со «Станционным смотрителем».
Про маленького человека я бы, надо сказать, с удовольствием поспорила с Романом, если бы наш семинар продолжался.
Как мы знаем из предисловия издателя, рукописями Ивана Петровича Белкина — не от злого намерения, а по недостатку воображения — ключница заклеила окна флигеля.
Я не буду говорить, что вот теперь мы, потомки, отклеиваем листы этой рукописи и пытаемся разобрать…
Просто хорошо, что появляются новые рукописи. И мы можем узнать, какие разные Белкины рассказывают нынче истории.
Готовя фестиваль «Ай да Белкин», в качестве общей концепции мы знали только одно, зато главное: нужно, чтобы и Пушкин, и Белкин, и Копейкин были нашими живыми собеседниками, участниками сегодняшнего культурного процесса. Потому что — ну, а куда же они денутся!
В общем, представляем вашему вниманию седьмую, восьмую и девятую повести Белкина.
Приятного чтения/прослушивания!
Да, кстати, не забудьте, пожалуйста, перечесть пушкинские «Повести Белкина» до или сразу после знакомства с этим нашим сборником.
Эта мысль занимала меня не один год. Любимые книги — это то, с чем ты живёшь и видишь их отражение в мире вокруг, а ещё это то, что живёт в тебе. Книги — они ведь живые.
Первые встречи семинара были посвящены выбору той самой единственной книги. Первый тур — короткие предвыборные программы и голосование. Второй тур — две книги, бурное обсуждение и снова голосование. Поражение потерпела набоковская «Защита Лужина», а победили «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» Александра Сергеевича Пушкина.
Я была рада такому результату — но даже предположить не могла, насколько это на самом деле будет счастье.
Оказалось, что пять коротеньких повестей и главка от издателя будут источником очень радостного процесса.
Участники делали самые разные презентации — о правилах дуэли, особенностях мундира капитана Копейкина и спроса на различные виды дерева для гробов, о том, почему русские писатели мрачные и Пушкин, выходит, бунтарь русской литературы. Говорили о литературных играх и шутках повестей, обсуждали наслоения рассказчиков, анализировали недостатки в характере Самсона Вырина.
Много спорили о дуэльных правилах и о том, насколько позорным следует считать второй первый выстрел соперника Сильвио.
Говорили о сомнительности семейного счастья, основанного на притворстве и непогоде.
Одна из наших семинаристок сделала полноценное исследование серий гравюр по притче о блудном сыне, чтобы предположить, какие именно висели на стенах домика станционного смотрителя.
А ещё мы старались понять, как же так выходит, что в повестях столько для нас, скромных читателей, счастья.
На первом же обсуждении мы решили, чего для нашего фестиваля хотим — и хотим обязательно.
Дело в том, что к столетию со дня смерти Александра Сергеевича, в 1937 году, Михаил Зощенко опубликовал «Шестую повесть Белкина» под названием «Талисман».
Зощенко писал пародии на современников — Замятина, Шкловского, Чуковского и других. Чуковский называл их учебными экзерсисами в области литературной стилистики, позволившими Зощенко вырабатывать собственный стиль, тренировать свою чуткость к интонациям речи. Говорят, такая игра с Пушкиным далась Зощенко нелегко.
Предваряя «Талисман», Зощенко пишет так: «Мне казалось (и сейчас кажется), что проза Пушкина — драгоценный образчик, на котором следует учиться писателям нашего времени. Занимательность, краткость и чёткость изложения, предельная изящность формы, ирония — вот чем так привлекательна проза Пушкина».
Нам эти слова показались очень верными — и совсем не устаревшими. И мы решили продолжить затею Зощенко сами. Мы отправили письма с приглашением написать новую повесть Белкина разным русским поэтам и писателям. На наше приглашение ответили согласием трое — и так сложился состав авторов этого сборника: Павел Пепперштейн, Алексей Сальников и Роман Сенчин.
Мы не требовали обязательных художественных решений. Просто предлагали подумать, что за повесть они могли бы написать именно как продолжение «Повестей Белкина»: то есть у нового текста должна быть какая-то проявленная, важная автору связь с оригиналом — а уж какая она будет, авторы решали сами.
Было только одно формальное ограничение — новые повести не должны быть короче пушкинских. Поэтому нижнюю планку задали «Гробовщиком», он самый короткий, — и в новых повестях должно было быть не меньше 13 000 знаков.
Ещё мы формально подошли к названиям и порядку новых повестей — расположили их в порядке получения готовых текстов.
Поэтому седьмая повесть Белкина, после шестой зощенковской, оказалась повестью Павла Пепперштейна, он успел обогнать двух других писателей.
Авторы новых повестей подошли к делу совершенно по-разному:
Павел Пепперштейн, рассказывая об этом опыте, предлагает теорию о том, что, выбрав своим альтер эго Белкина, Александр Сергеевич определил свою жертвенную судьбу: Белкин — это белка, так Пушкин из «пушки» стал «пушниной». Итог — некритичная игра со стилем, сказками, позапрошлым столетием. И получилось «Дупло».
Алексей Сальников стилизует старательно: девятнадцатый век, внезапный поворот сюжета, оптимизм по отношению к невестам — про невест это не мы придумали, Алексей сам так говорит.
Среди достоинств оригинальных повестей Сальников подчёркивает важное свойство пушкинских текстов: несмотря на предсказуемость (и потому, что в «Метели», например, легко предугадываешь счастливый финал, и потому, что все мы знаем, чем дело кончится) — так вот, несмотря на предсказуемость, читатель всё равно получает огромное удовольствие.
Роднит Сальникова с главным автором и человечное отношение к собственным героям. Сальников вообще к своим героям относится с пониманием, но «Упрямец» ещё и получился безоговорочно доброй историей.
А вот Роман Сенчин не пошёл в девятнадцатый век — он говорит о реальности, и говорит сегодня. Сам Сенчин связь с «Повестями Белкина» видит через два ключевых элемента своей повести: тему русского офицерства и разговор о маленьком человеке, — в этом Сенчин видит связь своего «Капитана запаса» со «Станционным смотрителем».
Про маленького человека я бы, надо сказать, с удовольствием поспорила с Романом, если бы наш семинар продолжался.
Как мы знаем из предисловия издателя, рукописями Ивана Петровича Белкина — не от злого намерения, а по недостатку воображения — ключница заклеила окна флигеля.
Я не буду говорить, что вот теперь мы, потомки, отклеиваем листы этой рукописи и пытаемся разобрать…
Просто хорошо, что появляются новые рукописи. И мы можем узнать, какие разные Белкины рассказывают нынче истории.
Готовя фестиваль «Ай да Белкин», в качестве общей концепции мы знали только одно, зато главное: нужно, чтобы и Пушкин, и Белкин, и Копейкин были нашими живыми собеседниками, участниками сегодняшнего культурного процесса. Потому что — ну, а куда же они денутся!
В общем, представляем вашему вниманию седьмую, восьмую и девятую повести Белкина.
Приятного чтения/прослушивания!
Да, кстати, не забудьте, пожалуйста, перечесть пушкинские «Повести Белкина» до или сразу после знакомства с этим нашим сборником.
Дупло.
Седьмая повесть Белкина*
Седьмая повесть Белкина*
-
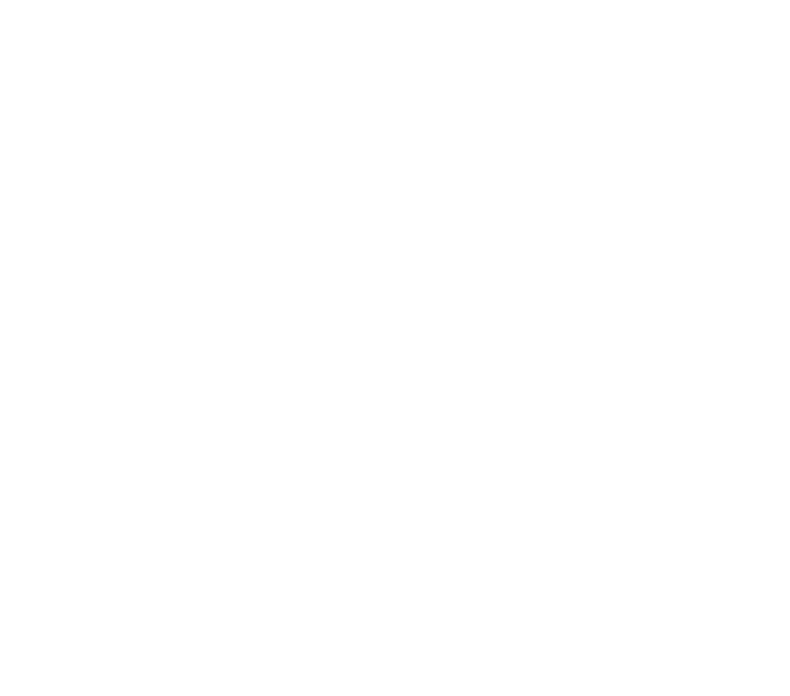 Павел Пепперштейнписатель, художник
Павел Пепперштейнписатель, художник
A ma belle amie Grete Thunberg
«Ах, — воскликнула она, —
раздавленная белочка! Как это жалко!»
В. Набоков. Лолита
«Ах, — воскликнула она, —
раздавленная белочка! Как это жалко!»
В. Набоков. Лолита
Летом 182* года пришлось мне оставить военную службу, потому как следствие раны, полученной мною некогда среди польских равнин, причиняло мне больше хлопот, нежели ожидал я поначалу, к тому же многие письма от родных моих настоятельно внушали мне мысль незамедлительно заняться делами имения, доставшагося мне в наследство от внезапно почившего дядюшки моего графа Н***. Этого покойного дядюшку я почти не знал и, пытаясь мысленно воскресить лицо его, вспоминал лишь золотую табакерку, увенчанную опалом, которую сей старик любил вращать в бледных, сморщенных, длинных и праздных пальцах. Писали мне, что хозяйство изрядно разорено, что управляющий плут, крестьяне и вовсе утратили всякое разумение долга, а поскольку на иные доходы, кроме как от Сычовки, я не смел рассчитывать, соответственно покорно сменил любимый мною гусарский мундир на невзрачный сюртук сельского помещика.
Деревенская жизнь, прежде мне совершенно незнакомая, показалась мне тягостною и унылою. В каком-то оцепенении проводил я дни, не помышляя даже о бегстве, развлекаясь лишь охотой да одиноким пьянством и чревоугодием. С ужасом и стыдом изредка встречал я в тусклом зеркале лицо своё, ещё столь молодое, ещё украшенное военными усами (которыми прежде случалось мне гордиться), но уже болезненно одутловатое и словно бы спящее. В конце того душного и равнодушного лета к не излеченной до конца боли, что осталась мне на память о ратных делах, прибавилась новая и даже ещё пуще докучавшая мне напасть: заныл у меня зуб. Доставили мне лекаря-немца, вооружённого круглым зеркальцем.
— Дупло, притом преглубокое, — изрёк сей шепелявый эскулап. — Потребно будет удалить весь зуб, mein Herr. Aber… Зуб не прост, и проделать над вами необходимую операцию смогу не ранее как через две, а то и три недели, после того как прибудет из Германии достойный инструмент, уже некоторое время назад мною заказанный. А до той поры — мужайтесь и терпите, молодой воин. И сторонитесь сладкого.
С тем он и уехал. Зубной недуг ещё более укрепил во мне пагубное расположение к тому зелью, к коему втайне или же въяве склонен каждый русский человек, волею судьбы обречённый на праздность и тяжкое уединение. Только во хмелю избавлялся я на время от страданий, и в те часы мысли мои текли как прежде свободно и плавно: вспоминались весёлые гусарские пирушки, вспоминалось остроумие и смех друзей моих, вспоминались горячие схватки с неприятелем и дымы, летящие над полями сражений, а то и пылающие девичьи очи, тёмные и мечтательные, вспыхивали перед моим мысленным взором и пронзали душу мою насквозь. И тогда страдающий мой рот оживлялся если и не чудесным поцелуем, то хотя бы воспоминанием о поцелуе. Так я и жил те месяцы, то целуясь с призраками, то сдерживая невольные стоны, недостойные бывшего военнаго.
Я не счёл нужным даже свести знакомство с соседями, настолько сделался тогда un misanthrope. Ближайшим моим соседом, о коем нередко слышал я от дворовых своих людей, был некий помещик Кайгаров, человек уже почтенных лет и, как говорили, неимоверно богатый, но при этом пользовавшийся репутацией самой скверной. Говорили о жестоком и злобном его нраве, о мстительности и гневливости этого le petit tyran. В молодости водились за ним, по слухам, некие совсем уж непотребные деяния, и о деяниях этих в наших краях не судачили разве что речные налимы. Но меня в моей тоске этот сельский изверг нимало не занимал, и я не вслушивался в сокрушённые лепетания своих лакеев и болтливых (как водится) служанок. Из множества этих лепетов и шёпотов проникла в моё скучающее сознание одна лишь особенно сокрушённая и как бы всхлипывающая нота — даже не нота, а полнокровный мотив либо целая скорбная песня или причитание. Этот мотив, эта нота, эта песня — всё это касалось молодой жены Кайгарова. Где-то за год до моего прибытия в Сычовку старый бобыль обвенчался с молоденькой сиротой, происходившей из старого дворянского рода, но совершенно обнищавшего. Девушка эта росла воспитанницей у одной помещицы, которую Кайгаров, по слухам, настолько опутал интригами и долговыми обязательствами, что ей просто ничего другого не оставалось, как выдать за него юную воспитанницу. Так же, как ненавидели и страшились в наших местах Кайгарова, так же полюбили его молодую жену. Говорили о ней как о сущем ангеле с лучезарной душой, о доброте и сострадательности её ходили легенды, да и красоты она была писаной, если верить нашим участливым кумушкам. Жалели её истово, доходило и до слёз на бабьих щеках. Шептались о страшных издевательствах, чуть ли не о пытках, которым подвергает свою беззащитную жертву старый тиран. Говорили и о том, что сирота, несмотря на бесправное положение своё, всё же старается украдкой помогать тем несчастным, что пострадали от крутого нрава и необузданной алчности её супруга. В общем, выходила история в духе народной сказки — такая история, в которую не мог не влюбиться народ, так что не приходилось удивляться, что сделалась она притчею во языцех.
Сквозь глубокую апатию, окутавшую меня, история эта затронула и мою притуплённую возлияниями впечатлительность. Думаю, уже тогда почувствовалось в этих пересудах нечто фатальное для меня самого, нечто неотвратимое и надвигающееся на меня — и я, и без того оцепеневший, дополнительно застыл в ожидании встречи с моим фатумом. Тем временем, несмотря на инертность мою, всё же удалось мне, причём в достаточно краткий срок, кое-как наладить дела в моих владениях: я сменил прежнего управляющего на нового, вроде бы дельного и даже отчасти честного человека. Да и само присутствие хмурой фигуры моей, слоняющейся повсюду с охотничьим ружьём, уже влияло на холопов моих должным образом. Дела верно поправлялись, и я уже со смутной надеждой подумывал о скором отъезде. Но нечто словно бы удерживало меня. Даже зубная боль не могла меня сподвигнуть заложить коляску и отправиться пусть и в ближайший городок в надежде разыскать там более сноровистого лекаря, нежели мой нерасторопный германец. Но я не ехал, всё ждал немца с его мифическими обещанными мне щипцами — и порою даже снилось мне, как эти щипцы сами собой бегут ко мне из Германии, переставляя своими металлическими блестящими ногами: вот они перепрыгнули Неман, вот они бегут курляндскими и лифляндскими землями, вот они трапезничают в дорожном трактире, вот добегают до Петербурга и оттуда поворачивают бег свой в сторону нашей глухомани… Но видно, споткнулись где-то германские щипцы, упали в придорожную канаву да и заснули там мёртвым железным сном.
В один из последних дней августа пробудился я поздно, как вошло у меня в привычку, позавтракал сытно и даже выпил стакан мадеры, что смягчило мои докучливые страдания. Взяв затем ружьё, я (опять же в соответствии с собственною рутиною) зашагал в сторону леса. Жара стояла почти невыносимая, воздух весь замер, обратившись то ли в мёд, то ли в студень. Обливаясь потом, шёл я, слегка пошатываясь, и казался сам себе утопленником, выпрыгнувшим за какой-то надобностью из горячего болотца. Несколько раз небрежно выстрелил по каким-то упитанным птицам, затем подстрелил чёрную белку, но тут же забыл о случайной и ненужной жертве моей. Спасительное действие мадеры сходило на нет, и зубная боль вновь стала настигать меня. Утомившись, я решил дойти до большого дуба, у корней которого чьи-то заботливые руки установили когда-то скамейку. Хоть и сколотили её давно, а всё ж она не утратила своей грубой прочности, и я любил выкурить трубочку, отдыхая в дубовой тени. Приблизившись к тому месту, я увидел на скамье светлую фигуру, явно женскую, склонившуюся над книгой. Я подошёл, приподнимая охотничью свою шляпу. Это была она, молодая жена Кайгарова. Хоть я и увидел её тогда впервые, но сразу же осознал со всей определённостью, что это именно она. Ясные серые глаза взглянули на меня, и она приветствовала меня полным моим именем. Деревня живёт молвою — она знала обо мне не менее, нежели я знал о ней. Инкогнито в деревне вещь немыслимая. Мы обменялись вежливыми фразами. Иной романист сплёл бы здесь целый диалог, состоящий из русских и французских фраз, но я не пойду этою дорогою. Вы любите диалоги, читатель? Возможно, так оно и есть, и вы действительно жить не желаете без диалогов, но им не место на этих страницах. То ли слишком ныл мой зуб, то ли слишком голова кружилась от жары, потому я смутно помню наш разговор. Помню, меня поразило её свободное и уверенное обращение. Я ожидал увидеть замученную, запуганную, истерзанную девочку, не смеющую поднять глаз, вздрагивающую от каждого шороха, но она держалась совершенно по-светски, как если бы беседа наша протекала в каком-нибудь из аристократических салонов Петербурга. От её внимания не укрылось моё болезненное состояние, и она прямо спросила о нём. Отчего-то я с откровенностью, изумившей меня самого, поведал ей и про военную рану, и про больной зуб. Если первое и может стать предметом беседы между молодой дамой и господином, которые едва знакомы, то второе — тема уже совершенно не светская, такое воспитанный человек обязан бы скрыть, почитая приличия, но внезапно я ощутил в её отношении такую доверчивость, что мне и в голову не пришло скрывать свой прозаический недуг. Она ответила мне взглядом, полным неподдельного сочувствия.
— Завтра я приду сюда в этот же час и принесу вам склянку со снадобьем, которое хоть и не излечит вас, но сделает нечувствительным к вашей боли, — произнесла она с участием и в то же время совершенно непринуждённо.
Я не успел изумиться тому обстоятельству, что мне только что вроде бы назначили свидание, причём без намёка на смущение либо кокетство, как она добавила столь же непринуждённым, но серьёзным тоном:
— Супруг мой Александр Амвросиевич человек в летах и часто недужит, поэтому у него подобных зелий в избытке. Это поможет вам.
Я не знал, что и думать. Всё это вовсе не вязалось с народною сказкой о жертве-сироте, выданной насильно и истерзанной тираном. О муже своём она упомянула, как мне показалось, без какого-либо страха, скорее со спокойным уважением и даже с сочувствием — так вряд ли говорят о домашнем изверге. Да и весь облик её ничем не напоминал жертву — передо мной сидела цветущая молодая женщина, просто, но элегантно одетая, прекрасная, рассудительная, как бы даже умиротворённая, и хотя было ей не более семнадцати, а всё же она производила впечатление человека умудрённого и способного к весьма ясным и дельным суждениям.
Мы немного поговорили о книге, которую она читала. Это был французский роман. Я не удивился её признанию, что чтение романов составляет одно из главнейших её развлечений в нашей глуши. Она пожаловалась, что ей не хватает книг, что все романы, которые она обнаружила в кайгаровском доме, ею уже давно прочитаны и теперь она перечитывает их по второму кругу. Я сказал, что у меня от покойного дяди осталось изрядное количество французских и английских книг. Спросил, читает ли она по-английски, и получил утвердительный ответ, причём она добавила, что даже отдаёт предпочтение английским романам перед французскими. «Пусть они и мрачнее, зато не в пример таинственнее», — заметила она с усмешкой. Я обещал принести ей несколько в благодарность за склянку.
Так произошла моя встреча с Дарьей Игнатьевной Кайгаровой — встреча, навеки изменившая и меня самого, и всю мою жизнь. Читатель ждёт уже фраз наподобие «мгновенно вспыхнувший сердечный пожар», «пронзительная молния внезапного чувства», «нежданное воскресение из мертвых». Спешу ублаготворить нетерпеливого читателя: да, там был и «мгновенно вспыхнувший сердечный пожар», и «пронзительная молния внезапного чувства», и, уж конечно, случилось «нежданное воскресение из мертвых». Даже зуб мой перестал болеть, как если бы я уже осушил ту склянку, которую мне обещали.
Я пишу об этом ныне так бестрепетно исключительно в силу того обстоятельства, что последующие события оказались настолько невероятны, что первая встреча наша, сколь резко бы она ни перевернула меня, но всё же в сравнении с последующим кажется всего лишь одним из эпизодов в духе того романа, что лежал в тот день на её коленях.
Действительно, до сей поры описываемое мною вполне могло показаться вам домашним переложением на русский лад какого-либо французского романа, точнее, некоего фрагмента такого романа, далее поневоле начнётся роман скорее уж английский, но недолго ему таковым оставаться — желаете вы того или нет, но в дальнейшем пришлось бы вам ознакомиться с достаточно спутанными фрагментами романа даже не знаю какого, уж точно не французского и не английского, а словно бы даже не в нашем мире писанного. Пришлось бы, да не придётся, поскольку создание романа (пусть даже и совершенно неземного) вовсе не входит в мои скромные намерения — речь идёт о короткой повести. Скажу только, что возвращался я с того первого, случайного свидания с Дарьей Игнатьевной в состоянии более чем приподнятом — словно бы летел я по воздуху в своих охотничьих сапогах, словно бы некие невидимые и воздушные существа толкали меня в пятки и будто подбрасывали над землёй. Местность окрест моего наследного имения простирается вполне живописная, даже в высшей степени живописная, но только вот уже много недель не радовала она моего взора, а тут вдруг повергла в такой неизбывный восторг, что аж дыхание перехватывало. Жаркий неподвижный воздух над ландшафтом уже не казался ни мёдом, ни студнем, а скорее драгоценным янтарём, куда вплавлена была река, совершающая здесь широкий изгиб: река эта лежала бронзовым ятаганом в оправе из купав и склонов, в самом далеке рассыпаны были по ней крошечные визжащие головки плескающейся деревенской детворы, за рекой шло стадо, казавшееся ожерельем мелкого чёрного и белого жемчуга, а на этой стороне готически вздымалась сосновая роща, и над её смолистыми изрезанными кронами поднимался остроконечный мезонин моего дома, увенчанный полыхающим на солнце медным флажком-флюгером. Впервые со дня моего прибытия сюда подумалось мне: как здесь славно! Может быть, и не стоит мне никогда покидать этих благословенных мест, коих сделался я счастливейшим обладателем согласно последней воле покойного дядюшки, чьего лица я так и не удосужился вспомнить, а вот помню только белые, ловкие, праздные пальцы, играющие золотой табакеркой? Да разве не является вся эта Сычовка такой вот драгоценною табакеркой, сокровищем, увенчанным магическим опалом?
И в то же время тревожные вопросы проносились сквозь душу мою — так пробегают босоногие служанки по тёмным анфиладам, неся в одной руке горящую свечу, другою же ладошкой прикрывая огонёк, чтобы не задуло его ветром. Может ли быть, что она любит своего чудовищного мужа, внушившаго отвращение всей окрестности? Да никак не может такого быть! И всё же она чтит его, повинуясь вековой традиции, хоть и была выдана насильно? Но даже эти вопрошания не отзывались во мне болью, скорее отчего-то счастием. А ведь я привык к боли, привык ощущать страдание. И вдруг не оказалось его на месте.
На следующий день вновь встретились мы у заветного дуба, и каждый из нас сдержал своё обещание: я принёс ей несколько книг в тиснёных переплётах, она же вручила мне пирамидальную склянку толстого стекла, наполненную некоей жидкостью. А также передала мне сложенный надвое листок, где чётким и изящным почерком прописала, сколько капель этого снадобья, смешавши с водою, следует мне принимать в случае слабой боли, а сколько — в случае, ежели боль окрепнет и вконец станет донимать меня.
— Отныне вы главный лекарь мой! — воскликнул я, почтительно целуя её прелестную руку. — И клянусь, со дня сотворения медицины не рождался ещё эскулап, наделённый столь неотразимым очарованием!
Она засмеялась, не отнимая руки, и произнесла в ответ нечто простое и совершенно непринуждённое, как и было ей свойственно. По-прежнему не ощущалось в ней никакого кокетства и в то же время никакого смущения — а ведь и то и другое столь часто проявляемо бывает провинциальными барышнями. А после долго сидели мы рядом на той скамье, взирая на открывающиеся оттуда дали и разговаривая почти столь же свободно и доверительно, как если бы знали друг друга с самого детства. Она живо расспрашивала меня обо всём: о моих родных, о войне, о столичной жизни. Осведомилась, не видал ли я, случаем, Наполеона и Государя нашего, расспрашивала с особенной пристальностью о столичных дамах и о нравах их, любопытствовала о Европе и о чужеземных обычаях — всё интересовало её, и я с наслаждением служил её любознательности, внезапно обнаруживая в себе вдохновенного и остроумного рассказчика. Сам же я не смел её ни о чём расспрашивать, хотя и страстно желал спросить о многом — прежде всего, несчастна ли она в замужестве и не терзает ли её Кайгаров? Вопросы эти, оставаясь невысказанными, порою огнём жгли меня. Но как и в первое наше свидание, по-прежнему не в силах я был обнаружить в ней никакого следа несчастия, ни тени отягощающих её уз, ни единого оттиска претерпеваемых ею страданий.
С того началась наша дружба, и встречи у дуба постепенно сделались нашей традицией. Стоит ли говорить, что я ждал этих встреч, словно манны небесной, и каждое из этих свиданий озаряло ярким светом душу мою? Да, она держала себя полностью другом, словно бы не ожидая от меня никакой для себя опасности. Я же, влюблённый безумно, не смел нарушить этой доверительности ни единой вольностию, ни единым проблеском страстей, кипевших во мне, — и ни разу румянец не залил прекрасного её лица. Но затем нечто изменилось: пришла ранняя осень, повеяли холодные ветры. Она сообщила мне, что муж её занемог и она не сможет более приходить к нашему дубу, ибо намерена посвящать дни свои заботам о больном. Взамен свиданиям пришла переписка — и почтовой станцией нашей сделался опять тот же самый дуб, верный покровитель нашего приятельства. В том дубе имелось глубокое дупло — встав на скамейку, можно было вложить туда руку: внутри изгиб древесной плоти образовывал как бы некую полочку: там и оставляли мы наши послания друг другу. Она посылала записки свои с преданною служанкой, я же приходил сам. Невыразимо больно мне было не видеть лица её, не видеть этих ясных и сияющих глаз, но, с другой стороны, тайная романтическая переписка, дупло — разве не так поступают влюблённые в десятках романов? Были мы и в самом деле влюблёнными? Я — да, всецело. А что же она? Любила ли она меня просто как тайного приятеля, развлекающего невинным приключением её унылую сельскую жизнь? Или то было нечто большее? Мучительно и страстно всматривался я в скупые строки её изящных посланий (порою поразительно глубокомысленных и при этом кратких), пытаясь найти среди них проявления той любви, которая превосходила бы дружескую привязанность, смешанную с подобием детской игры.
И порою мне казалось, что я нахожу эти проблески, эти почти несуществующие намёки на ответное сердечное влечение… И в те минуты ликование охватывало меня и я думал о том, что Кайгаров стар, что он болен, что он скоро умрёт… Мне казалось, что эта зловещая руина просто обязана умереть, дабы открыть дорогу моему счастию… Как же он может не умереть? — думал я. — Ежели он того не сделает, то я вправе счесть такой поступок за личное оскорбление, и тогда я вызову его на дуэль… Мысли мои путались горячечно. Сударь, вы осмелились не умереть и за это заплатите кровью… Но нет, злоба и старость сожрут его изнутри, он умрёт, умрёт, и она сделается свободною, и тогда я упаду к её ногам, и мы соединим жизни наши в незыблемом блаженстве…
Теперь, глядя в зеркало своё, я видел уже не одутловатого и сонного человека, на чьём апатичном лице кто-то по рассеянности забыл гусарские усы. На меня смотрел пылкий юноша с горящими глазами, бледный, с влажным лбом, где прилипла чёрная прядь. Я очень исхудал, и это мне шло. Про больной свой зуб я почти забыл — волшебные капли, подаренные мне моей возлюбленной, укрывали меня от боли. Да и военная рана моя не напоминала о себе. Порою странное упругое великолепие переполняло меня: то я казался себе леопардом, пробирающимся своею лесною тропой, то вдруг приходила мне охота танцевать, и случалось, что я, оставшись один в комнатах, одиноко кружился по паркетам, сжимая стан невидимой дамы… Сны мои сделались глубоки и многоцветны, в этих видениях блуждал я рука об руку с Дарьей Игнатьевной по городам неведомым, мы входили в гигантские храмы, принадлежащие древнейшим религиям, мы внимали музыке бубнов и колокольчиков, в тёмных и жарких садах играли мы с крошечными пантерами, и они нежно облизывали нам пальцы. Облачённые в тяжёлые шёлковые одеяния, скользили мы в длинных украшенных лодках по смуглым водам неизвестных нам рек, проплывали под широкими мостами, где вершились незнакомые праздники…
Так длилось, пока однажды, в тёмный и ветреный день (октябрь близился к своему завершению), не извлёк я из заветного дупла послание, которое с первого взгляда показалось мне куда более многословным, чем те краткие письма, которые обычно писала мне Дарья Игнатьевна.
Я узнал её любимый мною почерк, ясный, изящный и отчётливый, но строки лепились друг к другу теснее, чем обычно, а лист плотной бумаги исписан был полностью с двух сторон, чего прежде не случалось. Нечто кольнуло меня в сердце. Со страхом приступил я к чтению — уж не прощальное ли это послание? Прочитав же, я оцепенел в ужасе, лишь волосы словно шевелились у меня на голове. Это было не прощальное послание, но… Она безумна! — подумал я, да и могло ли явиться иное решение? Она утратила разум! Она в горячке, в бреду!.. Что могло случиться с нею? Неужели этот изощрённый палач, этот кромешный глумливец, коего называет она мужем, подверг её каким-то изуверским пыткам, каким-то изобретательным издевательствам, каким-то неведомым и непредставимым унижениям, после чего светлый ум её помутился?! Иная мысль не приходила мне в голову. Впрочем, вот оно, это письмо, оно и сейчас лежит предо мною. Привожу его здесь полностью, хотя и с душевной мукой, с тягостным трепетом, с холодным зимним страхом:
Мой друг, пишет Вам знакомая Ваша по сельской глуши Дарья Игнатьевна Кайгарова, да и кто иной мог бы оставить Вам послание в этом дупле, ведь о тёмном месте этом никто, кроме нас с Вами, не ведает, да вот ещё преданная служанка моя Агафья, а более никто в целом мире, это наш с Вами секрет, да о чём я? Сегодня, как и третьего дня, как и в предшествующие дни, придёте Вы к дубу нашему отвратительною пружинистою походкою, Ваши усишки мерзейшие будут гнусно топорщиться на личике Вашем — такие личики встречаются в гербариях, встречаются в витринах некоторых магазинов, такими личиками торгуют вразнос на Вашем Кузнецком Мосту, на Вашем Невском проспекте, на Ваших парижских набережных, на Ваших берлинских аллеях. За такими личиками, как за ширмами, скрываются сущности, коим есть одно лишь прозвание — убийца. Вы и есть убийца, вы убили сына моего! На сыноченька моего ласковаго поднялась Ваша нечестивая рука! Как он был спор, как резв, как я любила его! Как млело, как трепетало сердце моё, когда целовала я его тёплое пушистое темечко! Родненький мой, кровинушка моя, плод чрева моего, золотой орешек души моей! Знаете ли Вы, кроваворукий… нет, Вы не можете знать, как долго ждала его — века, тысячелетия прошли, пока не понесла я, а носила его двести лет, вынашивала, лелеяла в укромных глубинах телесных, а потом разродилась им без крика, без стона, без причитаний. Здесь родила чадо своё, у дуба нашего, на скамье нашей, одна, обошлась без докторов, без повивальных бабок — так рожаем мы, коих Вы почитаете за ничто. Никогда не забыть мне тот миг, как открыл он впервые изумрудные свои глазки… И вдохнул жадно воздух лесной, смолистый, ветвистый, святой… Зачем Вы убили его, невиновнаго, не причинившаго Вам ни малейшаго зла? Я сидела здесь с Вами возле нашего дуба, любезничала с Вами, обсуждаючи французские и английские романы, кои приносили Вы мне, слушала байки Ваши, исполненныя глупаго хвастовства, исполненныя глупой гордыни Вашей, глядела в похотливыя Ваши глаза — о, если б Вы только ведали, с каким омерзением наблюдала я все вздрагивания и подавленныя порывы Ваши! О, как боялись Вы вспугнуть меня, как трепетали, как изворотливо прятали гнусный пыл истинных желаний Ваших за личиною дружеской учтивости, не зная, что Вы для меня видны как на ладони, как в склянке, как в зеркале, — вместе со всеми Вашими мечтательными поползновениями, столь тошнотворными моей душе. Таким, как Вы, лишь бы согреть смрадное тельце Ваше нашим ласковым теплом, лишь бы облачиться, как в ризу, как в мантию царскую, в наши нежные обволакивающие объятия! На иное мы Вам не годны! Куда Вам знать, на что способна наша сестра! Где Вам знать, что мы можем указывать путь, вести тайными тропами к сокровенному и сокровищному знанию? До троп ли вам тайных, когда опьянены Вы хищным сладострастием своим? Вы мните себя законным хозяином этих мест, этого леса, этого дуба, но не хозяин Вы даже себе самому, да и то сказать: как окоченели бы Вы от неподдельнаго ужаса, случись Вам хоть раз взглянуть в лицо подлинным хозяевам этих мест. Знаете ли Вы, какая древность скрывается в дубе этом — ведь «древность» и «древо» от одного древеснаго корня… Помните ли Вы, как я помню, те незапамятныя времена, когда жертвы приносили этому дубу, как обвивали его златыми цепями и гирляндами живых цветов, как кланялись ему в корни, как молили его о пощаде, о снисхождении… Помните ли, как жертвовали дубу этому золотых петушков и тулупчики заячьи и сжигали подношения священныя в кострах гигантских, чтобы пропитать, чтобы укрепить кору его дымом жертвенным, горько-сладким… Помните ли, как горели, как потрескивали петушки и тулупчики? Помните ли, как сидели на ветвях его влажные и смешливыя русалки? Помните ли, как молились ему бродячие лешие?
Где Вам помнить? В те времена не зачинали ещё даже самого далёкого предка Вашего! А потом явились они сюда, эти гнусные пращуры Ваши, и я видела, как это было, как били пушнину из пушек, как по нашей реке шли лодки, гружённые до бортов окровавленной рухлядью! Обрюзгшие, чугунные, ядроокие бояре Пушкарёвы и Пушкарския вгрызались в горло друг другу, танцуючи в тяжёлых, распахнутых, горностаевых, соболиных, куньих, беличьих шубах. How dare you? Как посмели Вы владеть мною в сладострастных похотениях Ваших? Мною, которая видела и ненавидела уже Ваших самых стародавних предков? Называете себя графами, но не графы вы, а грифы трупоядныя, терзающия своих и чужих мертвецов! Смотрела я в Ваше воспламенённое личико и думала лишь одно: месть, месть, месть. И ещё раз месть. И ещё раз! Но не стану я мстить Вам, потому что нет зла в сердце нашей сестры. Нет зла, есть лишь любовь. Я ненавидела Вас, но полюбила Вас, глупый убийца, глупый и хвастливый золотой петушок. И это письмо есть признание любовное. Как дочитаете строки эти, так немедля идите к дубу — там буду ждать Вас! Ваша Даша Кайгарова.
Никакими словами не смог бы я описать глубочайшее смятение, в какое повергло меня письмо Дарьи Игнатьевны. Она больна, она в горячке — это встало предо мною с совершенной ясностью. Мог ли быть у неё ребёнок, которого она потеряла? Об этом я ничего не знал, но почему называет она меня убийцею её ребёнка? Да, я был убийцей, но какой солдат на войне не убийца? Я убивал в открытом бою, убивал врагов ради защиты и во славу Отчизны своей. Убитые мной были солдатами, и мы на равных возлагали жизни свои на чаши смертельных весов. Но ребёнок её… Мы с нею даже любовниками не были… Да о чём я? Ведь она писала в горячке. Впрочем, я и сам был как в горячке и уже бежал к дубу. Было уже за полночь, мог ли я надеяться увидеть её там? Но она приказала, и я повиновался.
В ту ночь выпал первый, недолгий снег. Тонким светящимся покровом лежал он на чёрной земле. Всё окрест сделалось чёрно-белым, как на гравюрах в моём кабинете. Полная яркая луна освещала мой путь. Вот и дуб. Скамейку нашу покрывала непотревоженная белизна снега. Нетронутый снег. Никого нигде. Ничьих следов не увидел я на свежем снегу. Я постоял возле дуба в оцепенении, затем для чего-то встал на скамью и пошарил рукою в дупле. Письмо! Ещё одно письмо ожидало меня. Я достал из дупла холодный листок и в свете луны прочитал всего лишь одно слово:
d’accord…
Что-то подтолкнуло меня провести пальцем по буквам: они смазались, чернила были совсем свежия! На пальце остался тёмный след. Писали только что! Она где-то здесь, рядом, скрывается… Но как же не осталось следов на снегу? Меня лихорадило, и, несмотря на холод, горячечный пот лился мне на глаза из-под меховой шапки. Я позвал её — сначала робко и тихо, затем громче. И словно со стороны услышал хриплый голос свой, и голос этот звучал дикой смесью отчаяния и безумной надежды… Какой-то звук донёсся до меня в ответ. Как будто кто-то заворочался поблизости. Затем что-то словно бы посыпалось… Снова звук, словно некое крупное тело протискивалось сквозь препоны… Сомнений быть не могло: звук исходил из ствола дуба. Я прижался ухом к его холодной корявой коре: да, нечто ворочалось там, внутри. Скрипы, древесный шорох… Снова что-то посыпалось… Чья-то чёрная голова с острыми и опушёнными ушами стала выдвигаться из дупла. Инстинктивно я схватился за ружьё, но не обнаружил его — я не взял с собой ружья. Неведомое чёрное существо продолжало выпрастываться из древесного ствола. Уж не чорт ли? Хотел осенить себя крестным знамением, но рука мне не повиновалась. Наконец этот некто выпростался, скакнул и уселся на толстой кряжистой ветке прямо надо мной. С ужасом увидел я, что это гигантская чёрная белка, ростом с половину меня. Огромный её изогнутый и пушистый хвост слегка вздрагивал, в антрацитовом меху блестели снежинки. В одной своей лапке она сжимала белое гусиное перо, в другой — чернильницу с откинутой крышкой. И вот на чёрной встопорщенной мордочке её открылись два огромных глаза — изумрудные, полные зелёнаго луннаго света… Открылись и взглянули на меня и на небо.
Я упал на колени, словно что-то толкнуло меня. И в непостижимом порыве склонился до самой земли, коснувшись лбом зернистого снега. И озябшие губы мои прошептали сами собой:
— Я люблю вас. Простите меня. Позвольте мне быть с вами навеки.
После я лишился чувств и упал в снег лицом. Не помню ничего более о той ночи.
Очнулся я в утреннем сиянии, лёжа на своей постели. Передо мною сидел в креслах немец-эскулап, поигрывая новенькими щипцами, ярко блестевшими в солнечных лучах. Сверкали не только щипцы. Сверкало и круглое зеркальце у него на лбу.
— Простите меня, сударь, что заставил вас так долго ждать. Сей отличный прибор только сего дня мне доставили, однако я весьма им доволен. Соблаговолите открыть рот ваш. Сейчас же удалим больной зуб, и вы станете здоровы.
Всю экзекуцию помню как во сне. Немец сработал быстро и уверенно, и вот он уже демонстрировал мне мой удалённый зуб.
— Видите ли, каково дупло? Долго же вам пришлось с ним жить. Вещь тлетворнейшая, неудивительно, если вас слегка лихорадит. Воспаление от больного зуба разлилось по организму, но это пройдёт, mein Herr.
Я почти не слушал его, мне уже всё равно было: зуб ли, дуб ли…
— А что Кайгаровы? — пролепетал я. — Вы ведь их пользуете? Правда ли, что она потеряла ребёнка? И как сам Кайгаров?
— Про ребёнка не скажу — это предмет конфиденциальный. А Кайгарову велел я ехать на воды. Они с супругою вот уже две недели как уехали.
— Как? Уехали? — Я не мог поверить своим ушам.
Немец внезапно не без фривольности погрозил мне сухоньким пальцем.
— А вы ведь времени напрасно не тратите, молодой человек. Очаровали собою Дарью Игнатьевну. Ничто не скроется от глаз старого врача. И очень дальновидно поступили, надо сказать. Genau so… Кайгаров-то совсем плох — скоро отойдёт к праотцам старый негодяй. И Дарья Игнатьевна останется богатейшею вдовою. Verdammt, вам можно завидовать!
Он развязно подмигнул мне и удалился.
Я лежал неподвижно. Мне показалось, что во время операции не ощутил я боли, но тело моё, видимо, всё же испытало её. Только сейчас приметил я, что крепко сжимаю в ладони некий предмет. С трудом я разжал онемевшие пальцы и узрел золотую табакерку своего дядюшки, увенчанную опалом. Незадолго до того приспособил я эту вещицу для собственных курительных нужд. Сдаётся мне, во время операции я так сильно сжимал её, что на ладони моей остался отчётливый оттиск опаловой крышки. Я думал, этот оттиск пребудет навсегда, настолько он был глубок. Но след этот вскоре исчез.
Январь 2023
_
* Александр Сергеевич Пушкин написал пять повестей Белкина. Шестую повесть Белкина написал в 1937 году Михаил Зощенко, снабдив примечательным предисловием. Ныне перед вами седьмая повесть Белкина.
— Дупло, притом преглубокое, — изрёк сей шепелявый эскулап. — Потребно будет удалить весь зуб, mein Herr. Aber… Зуб не прост, и проделать над вами необходимую операцию смогу не ранее как через две, а то и три недели, после того как прибудет из Германии достойный инструмент, уже некоторое время назад мною заказанный. А до той поры — мужайтесь и терпите, молодой воин. И сторонитесь сладкого.
С тем он и уехал. Зубной недуг ещё более укрепил во мне пагубное расположение к тому зелью, к коему втайне или же въяве склонен каждый русский человек, волею судьбы обречённый на праздность и тяжкое уединение. Только во хмелю избавлялся я на время от страданий, и в те часы мысли мои текли как прежде свободно и плавно: вспоминались весёлые гусарские пирушки, вспоминалось остроумие и смех друзей моих, вспоминались горячие схватки с неприятелем и дымы, летящие над полями сражений, а то и пылающие девичьи очи, тёмные и мечтательные, вспыхивали перед моим мысленным взором и пронзали душу мою насквозь. И тогда страдающий мой рот оживлялся если и не чудесным поцелуем, то хотя бы воспоминанием о поцелуе. Так я и жил те месяцы, то целуясь с призраками, то сдерживая невольные стоны, недостойные бывшего военнаго.
Я не счёл нужным даже свести знакомство с соседями, настолько сделался тогда un misanthrope. Ближайшим моим соседом, о коем нередко слышал я от дворовых своих людей, был некий помещик Кайгаров, человек уже почтенных лет и, как говорили, неимоверно богатый, но при этом пользовавшийся репутацией самой скверной. Говорили о жестоком и злобном его нраве, о мстительности и гневливости этого le petit tyran. В молодости водились за ним, по слухам, некие совсем уж непотребные деяния, и о деяниях этих в наших краях не судачили разве что речные налимы. Но меня в моей тоске этот сельский изверг нимало не занимал, и я не вслушивался в сокрушённые лепетания своих лакеев и болтливых (как водится) служанок. Из множества этих лепетов и шёпотов проникла в моё скучающее сознание одна лишь особенно сокрушённая и как бы всхлипывающая нота — даже не нота, а полнокровный мотив либо целая скорбная песня или причитание. Этот мотив, эта нота, эта песня — всё это касалось молодой жены Кайгарова. Где-то за год до моего прибытия в Сычовку старый бобыль обвенчался с молоденькой сиротой, происходившей из старого дворянского рода, но совершенно обнищавшего. Девушка эта росла воспитанницей у одной помещицы, которую Кайгаров, по слухам, настолько опутал интригами и долговыми обязательствами, что ей просто ничего другого не оставалось, как выдать за него юную воспитанницу. Так же, как ненавидели и страшились в наших местах Кайгарова, так же полюбили его молодую жену. Говорили о ней как о сущем ангеле с лучезарной душой, о доброте и сострадательности её ходили легенды, да и красоты она была писаной, если верить нашим участливым кумушкам. Жалели её истово, доходило и до слёз на бабьих щеках. Шептались о страшных издевательствах, чуть ли не о пытках, которым подвергает свою беззащитную жертву старый тиран. Говорили и о том, что сирота, несмотря на бесправное положение своё, всё же старается украдкой помогать тем несчастным, что пострадали от крутого нрава и необузданной алчности её супруга. В общем, выходила история в духе народной сказки — такая история, в которую не мог не влюбиться народ, так что не приходилось удивляться, что сделалась она притчею во языцех.
Сквозь глубокую апатию, окутавшую меня, история эта затронула и мою притуплённую возлияниями впечатлительность. Думаю, уже тогда почувствовалось в этих пересудах нечто фатальное для меня самого, нечто неотвратимое и надвигающееся на меня — и я, и без того оцепеневший, дополнительно застыл в ожидании встречи с моим фатумом. Тем временем, несмотря на инертность мою, всё же удалось мне, причём в достаточно краткий срок, кое-как наладить дела в моих владениях: я сменил прежнего управляющего на нового, вроде бы дельного и даже отчасти честного человека. Да и само присутствие хмурой фигуры моей, слоняющейся повсюду с охотничьим ружьём, уже влияло на холопов моих должным образом. Дела верно поправлялись, и я уже со смутной надеждой подумывал о скором отъезде. Но нечто словно бы удерживало меня. Даже зубная боль не могла меня сподвигнуть заложить коляску и отправиться пусть и в ближайший городок в надежде разыскать там более сноровистого лекаря, нежели мой нерасторопный германец. Но я не ехал, всё ждал немца с его мифическими обещанными мне щипцами — и порою даже снилось мне, как эти щипцы сами собой бегут ко мне из Германии, переставляя своими металлическими блестящими ногами: вот они перепрыгнули Неман, вот они бегут курляндскими и лифляндскими землями, вот они трапезничают в дорожном трактире, вот добегают до Петербурга и оттуда поворачивают бег свой в сторону нашей глухомани… Но видно, споткнулись где-то германские щипцы, упали в придорожную канаву да и заснули там мёртвым железным сном.
В один из последних дней августа пробудился я поздно, как вошло у меня в привычку, позавтракал сытно и даже выпил стакан мадеры, что смягчило мои докучливые страдания. Взяв затем ружьё, я (опять же в соответствии с собственною рутиною) зашагал в сторону леса. Жара стояла почти невыносимая, воздух весь замер, обратившись то ли в мёд, то ли в студень. Обливаясь потом, шёл я, слегка пошатываясь, и казался сам себе утопленником, выпрыгнувшим за какой-то надобностью из горячего болотца. Несколько раз небрежно выстрелил по каким-то упитанным птицам, затем подстрелил чёрную белку, но тут же забыл о случайной и ненужной жертве моей. Спасительное действие мадеры сходило на нет, и зубная боль вновь стала настигать меня. Утомившись, я решил дойти до большого дуба, у корней которого чьи-то заботливые руки установили когда-то скамейку. Хоть и сколотили её давно, а всё ж она не утратила своей грубой прочности, и я любил выкурить трубочку, отдыхая в дубовой тени. Приблизившись к тому месту, я увидел на скамье светлую фигуру, явно женскую, склонившуюся над книгой. Я подошёл, приподнимая охотничью свою шляпу. Это была она, молодая жена Кайгарова. Хоть я и увидел её тогда впервые, но сразу же осознал со всей определённостью, что это именно она. Ясные серые глаза взглянули на меня, и она приветствовала меня полным моим именем. Деревня живёт молвою — она знала обо мне не менее, нежели я знал о ней. Инкогнито в деревне вещь немыслимая. Мы обменялись вежливыми фразами. Иной романист сплёл бы здесь целый диалог, состоящий из русских и французских фраз, но я не пойду этою дорогою. Вы любите диалоги, читатель? Возможно, так оно и есть, и вы действительно жить не желаете без диалогов, но им не место на этих страницах. То ли слишком ныл мой зуб, то ли слишком голова кружилась от жары, потому я смутно помню наш разговор. Помню, меня поразило её свободное и уверенное обращение. Я ожидал увидеть замученную, запуганную, истерзанную девочку, не смеющую поднять глаз, вздрагивающую от каждого шороха, но она держалась совершенно по-светски, как если бы беседа наша протекала в каком-нибудь из аристократических салонов Петербурга. От её внимания не укрылось моё болезненное состояние, и она прямо спросила о нём. Отчего-то я с откровенностью, изумившей меня самого, поведал ей и про военную рану, и про больной зуб. Если первое и может стать предметом беседы между молодой дамой и господином, которые едва знакомы, то второе — тема уже совершенно не светская, такое воспитанный человек обязан бы скрыть, почитая приличия, но внезапно я ощутил в её отношении такую доверчивость, что мне и в голову не пришло скрывать свой прозаический недуг. Она ответила мне взглядом, полным неподдельного сочувствия.
— Завтра я приду сюда в этот же час и принесу вам склянку со снадобьем, которое хоть и не излечит вас, но сделает нечувствительным к вашей боли, — произнесла она с участием и в то же время совершенно непринуждённо.
Я не успел изумиться тому обстоятельству, что мне только что вроде бы назначили свидание, причём без намёка на смущение либо кокетство, как она добавила столь же непринуждённым, но серьёзным тоном:
— Супруг мой Александр Амвросиевич человек в летах и часто недужит, поэтому у него подобных зелий в избытке. Это поможет вам.
Я не знал, что и думать. Всё это вовсе не вязалось с народною сказкой о жертве-сироте, выданной насильно и истерзанной тираном. О муже своём она упомянула, как мне показалось, без какого-либо страха, скорее со спокойным уважением и даже с сочувствием — так вряд ли говорят о домашнем изверге. Да и весь облик её ничем не напоминал жертву — передо мной сидела цветущая молодая женщина, просто, но элегантно одетая, прекрасная, рассудительная, как бы даже умиротворённая, и хотя было ей не более семнадцати, а всё же она производила впечатление человека умудрённого и способного к весьма ясным и дельным суждениям.
Мы немного поговорили о книге, которую она читала. Это был французский роман. Я не удивился её признанию, что чтение романов составляет одно из главнейших её развлечений в нашей глуши. Она пожаловалась, что ей не хватает книг, что все романы, которые она обнаружила в кайгаровском доме, ею уже давно прочитаны и теперь она перечитывает их по второму кругу. Я сказал, что у меня от покойного дяди осталось изрядное количество французских и английских книг. Спросил, читает ли она по-английски, и получил утвердительный ответ, причём она добавила, что даже отдаёт предпочтение английским романам перед французскими. «Пусть они и мрачнее, зато не в пример таинственнее», — заметила она с усмешкой. Я обещал принести ей несколько в благодарность за склянку.
Так произошла моя встреча с Дарьей Игнатьевной Кайгаровой — встреча, навеки изменившая и меня самого, и всю мою жизнь. Читатель ждёт уже фраз наподобие «мгновенно вспыхнувший сердечный пожар», «пронзительная молния внезапного чувства», «нежданное воскресение из мертвых». Спешу ублаготворить нетерпеливого читателя: да, там был и «мгновенно вспыхнувший сердечный пожар», и «пронзительная молния внезапного чувства», и, уж конечно, случилось «нежданное воскресение из мертвых». Даже зуб мой перестал болеть, как если бы я уже осушил ту склянку, которую мне обещали.
Я пишу об этом ныне так бестрепетно исключительно в силу того обстоятельства, что последующие события оказались настолько невероятны, что первая встреча наша, сколь резко бы она ни перевернула меня, но всё же в сравнении с последующим кажется всего лишь одним из эпизодов в духе того романа, что лежал в тот день на её коленях.
Действительно, до сей поры описываемое мною вполне могло показаться вам домашним переложением на русский лад какого-либо французского романа, точнее, некоего фрагмента такого романа, далее поневоле начнётся роман скорее уж английский, но недолго ему таковым оставаться — желаете вы того или нет, но в дальнейшем пришлось бы вам ознакомиться с достаточно спутанными фрагментами романа даже не знаю какого, уж точно не французского и не английского, а словно бы даже не в нашем мире писанного. Пришлось бы, да не придётся, поскольку создание романа (пусть даже и совершенно неземного) вовсе не входит в мои скромные намерения — речь идёт о короткой повести. Скажу только, что возвращался я с того первого, случайного свидания с Дарьей Игнатьевной в состоянии более чем приподнятом — словно бы летел я по воздуху в своих охотничьих сапогах, словно бы некие невидимые и воздушные существа толкали меня в пятки и будто подбрасывали над землёй. Местность окрест моего наследного имения простирается вполне живописная, даже в высшей степени живописная, но только вот уже много недель не радовала она моего взора, а тут вдруг повергла в такой неизбывный восторг, что аж дыхание перехватывало. Жаркий неподвижный воздух над ландшафтом уже не казался ни мёдом, ни студнем, а скорее драгоценным янтарём, куда вплавлена была река, совершающая здесь широкий изгиб: река эта лежала бронзовым ятаганом в оправе из купав и склонов, в самом далеке рассыпаны были по ней крошечные визжащие головки плескающейся деревенской детворы, за рекой шло стадо, казавшееся ожерельем мелкого чёрного и белого жемчуга, а на этой стороне готически вздымалась сосновая роща, и над её смолистыми изрезанными кронами поднимался остроконечный мезонин моего дома, увенчанный полыхающим на солнце медным флажком-флюгером. Впервые со дня моего прибытия сюда подумалось мне: как здесь славно! Может быть, и не стоит мне никогда покидать этих благословенных мест, коих сделался я счастливейшим обладателем согласно последней воле покойного дядюшки, чьего лица я так и не удосужился вспомнить, а вот помню только белые, ловкие, праздные пальцы, играющие золотой табакеркой? Да разве не является вся эта Сычовка такой вот драгоценною табакеркой, сокровищем, увенчанным магическим опалом?
И в то же время тревожные вопросы проносились сквозь душу мою — так пробегают босоногие служанки по тёмным анфиладам, неся в одной руке горящую свечу, другою же ладошкой прикрывая огонёк, чтобы не задуло его ветром. Может ли быть, что она любит своего чудовищного мужа, внушившаго отвращение всей окрестности? Да никак не может такого быть! И всё же она чтит его, повинуясь вековой традиции, хоть и была выдана насильно? Но даже эти вопрошания не отзывались во мне болью, скорее отчего-то счастием. А ведь я привык к боли, привык ощущать страдание. И вдруг не оказалось его на месте.
На следующий день вновь встретились мы у заветного дуба, и каждый из нас сдержал своё обещание: я принёс ей несколько книг в тиснёных переплётах, она же вручила мне пирамидальную склянку толстого стекла, наполненную некоей жидкостью. А также передала мне сложенный надвое листок, где чётким и изящным почерком прописала, сколько капель этого снадобья, смешавши с водою, следует мне принимать в случае слабой боли, а сколько — в случае, ежели боль окрепнет и вконец станет донимать меня.
— Отныне вы главный лекарь мой! — воскликнул я, почтительно целуя её прелестную руку. — И клянусь, со дня сотворения медицины не рождался ещё эскулап, наделённый столь неотразимым очарованием!
Она засмеялась, не отнимая руки, и произнесла в ответ нечто простое и совершенно непринуждённое, как и было ей свойственно. По-прежнему не ощущалось в ней никакого кокетства и в то же время никакого смущения — а ведь и то и другое столь часто проявляемо бывает провинциальными барышнями. А после долго сидели мы рядом на той скамье, взирая на открывающиеся оттуда дали и разговаривая почти столь же свободно и доверительно, как если бы знали друг друга с самого детства. Она живо расспрашивала меня обо всём: о моих родных, о войне, о столичной жизни. Осведомилась, не видал ли я, случаем, Наполеона и Государя нашего, расспрашивала с особенной пристальностью о столичных дамах и о нравах их, любопытствовала о Европе и о чужеземных обычаях — всё интересовало её, и я с наслаждением служил её любознательности, внезапно обнаруживая в себе вдохновенного и остроумного рассказчика. Сам же я не смел её ни о чём расспрашивать, хотя и страстно желал спросить о многом — прежде всего, несчастна ли она в замужестве и не терзает ли её Кайгаров? Вопросы эти, оставаясь невысказанными, порою огнём жгли меня. Но как и в первое наше свидание, по-прежнему не в силах я был обнаружить в ней никакого следа несчастия, ни тени отягощающих её уз, ни единого оттиска претерпеваемых ею страданий.
С того началась наша дружба, и встречи у дуба постепенно сделались нашей традицией. Стоит ли говорить, что я ждал этих встреч, словно манны небесной, и каждое из этих свиданий озаряло ярким светом душу мою? Да, она держала себя полностью другом, словно бы не ожидая от меня никакой для себя опасности. Я же, влюблённый безумно, не смел нарушить этой доверительности ни единой вольностию, ни единым проблеском страстей, кипевших во мне, — и ни разу румянец не залил прекрасного её лица. Но затем нечто изменилось: пришла ранняя осень, повеяли холодные ветры. Она сообщила мне, что муж её занемог и она не сможет более приходить к нашему дубу, ибо намерена посвящать дни свои заботам о больном. Взамен свиданиям пришла переписка — и почтовой станцией нашей сделался опять тот же самый дуб, верный покровитель нашего приятельства. В том дубе имелось глубокое дупло — встав на скамейку, можно было вложить туда руку: внутри изгиб древесной плоти образовывал как бы некую полочку: там и оставляли мы наши послания друг другу. Она посылала записки свои с преданною служанкой, я же приходил сам. Невыразимо больно мне было не видеть лица её, не видеть этих ясных и сияющих глаз, но, с другой стороны, тайная романтическая переписка, дупло — разве не так поступают влюблённые в десятках романов? Были мы и в самом деле влюблёнными? Я — да, всецело. А что же она? Любила ли она меня просто как тайного приятеля, развлекающего невинным приключением её унылую сельскую жизнь? Или то было нечто большее? Мучительно и страстно всматривался я в скупые строки её изящных посланий (порою поразительно глубокомысленных и при этом кратких), пытаясь найти среди них проявления той любви, которая превосходила бы дружескую привязанность, смешанную с подобием детской игры.
И порою мне казалось, что я нахожу эти проблески, эти почти несуществующие намёки на ответное сердечное влечение… И в те минуты ликование охватывало меня и я думал о том, что Кайгаров стар, что он болен, что он скоро умрёт… Мне казалось, что эта зловещая руина просто обязана умереть, дабы открыть дорогу моему счастию… Как же он может не умереть? — думал я. — Ежели он того не сделает, то я вправе счесть такой поступок за личное оскорбление, и тогда я вызову его на дуэль… Мысли мои путались горячечно. Сударь, вы осмелились не умереть и за это заплатите кровью… Но нет, злоба и старость сожрут его изнутри, он умрёт, умрёт, и она сделается свободною, и тогда я упаду к её ногам, и мы соединим жизни наши в незыблемом блаженстве…
Теперь, глядя в зеркало своё, я видел уже не одутловатого и сонного человека, на чьём апатичном лице кто-то по рассеянности забыл гусарские усы. На меня смотрел пылкий юноша с горящими глазами, бледный, с влажным лбом, где прилипла чёрная прядь. Я очень исхудал, и это мне шло. Про больной свой зуб я почти забыл — волшебные капли, подаренные мне моей возлюбленной, укрывали меня от боли. Да и военная рана моя не напоминала о себе. Порою странное упругое великолепие переполняло меня: то я казался себе леопардом, пробирающимся своею лесною тропой, то вдруг приходила мне охота танцевать, и случалось, что я, оставшись один в комнатах, одиноко кружился по паркетам, сжимая стан невидимой дамы… Сны мои сделались глубоки и многоцветны, в этих видениях блуждал я рука об руку с Дарьей Игнатьевной по городам неведомым, мы входили в гигантские храмы, принадлежащие древнейшим религиям, мы внимали музыке бубнов и колокольчиков, в тёмных и жарких садах играли мы с крошечными пантерами, и они нежно облизывали нам пальцы. Облачённые в тяжёлые шёлковые одеяния, скользили мы в длинных украшенных лодках по смуглым водам неизвестных нам рек, проплывали под широкими мостами, где вершились незнакомые праздники…
Так длилось, пока однажды, в тёмный и ветреный день (октябрь близился к своему завершению), не извлёк я из заветного дупла послание, которое с первого взгляда показалось мне куда более многословным, чем те краткие письма, которые обычно писала мне Дарья Игнатьевна.
Я узнал её любимый мною почерк, ясный, изящный и отчётливый, но строки лепились друг к другу теснее, чем обычно, а лист плотной бумаги исписан был полностью с двух сторон, чего прежде не случалось. Нечто кольнуло меня в сердце. Со страхом приступил я к чтению — уж не прощальное ли это послание? Прочитав же, я оцепенел в ужасе, лишь волосы словно шевелились у меня на голове. Это было не прощальное послание, но… Она безумна! — подумал я, да и могло ли явиться иное решение? Она утратила разум! Она в горячке, в бреду!.. Что могло случиться с нею? Неужели этот изощрённый палач, этот кромешный глумливец, коего называет она мужем, подверг её каким-то изуверским пыткам, каким-то изобретательным издевательствам, каким-то неведомым и непредставимым унижениям, после чего светлый ум её помутился?! Иная мысль не приходила мне в голову. Впрочем, вот оно, это письмо, оно и сейчас лежит предо мною. Привожу его здесь полностью, хотя и с душевной мукой, с тягостным трепетом, с холодным зимним страхом:
Мой друг, пишет Вам знакомая Ваша по сельской глуши Дарья Игнатьевна Кайгарова, да и кто иной мог бы оставить Вам послание в этом дупле, ведь о тёмном месте этом никто, кроме нас с Вами, не ведает, да вот ещё преданная служанка моя Агафья, а более никто в целом мире, это наш с Вами секрет, да о чём я? Сегодня, как и третьего дня, как и в предшествующие дни, придёте Вы к дубу нашему отвратительною пружинистою походкою, Ваши усишки мерзейшие будут гнусно топорщиться на личике Вашем — такие личики встречаются в гербариях, встречаются в витринах некоторых магазинов, такими личиками торгуют вразнос на Вашем Кузнецком Мосту, на Вашем Невском проспекте, на Ваших парижских набережных, на Ваших берлинских аллеях. За такими личиками, как за ширмами, скрываются сущности, коим есть одно лишь прозвание — убийца. Вы и есть убийца, вы убили сына моего! На сыноченька моего ласковаго поднялась Ваша нечестивая рука! Как он был спор, как резв, как я любила его! Как млело, как трепетало сердце моё, когда целовала я его тёплое пушистое темечко! Родненький мой, кровинушка моя, плод чрева моего, золотой орешек души моей! Знаете ли Вы, кроваворукий… нет, Вы не можете знать, как долго ждала его — века, тысячелетия прошли, пока не понесла я, а носила его двести лет, вынашивала, лелеяла в укромных глубинах телесных, а потом разродилась им без крика, без стона, без причитаний. Здесь родила чадо своё, у дуба нашего, на скамье нашей, одна, обошлась без докторов, без повивальных бабок — так рожаем мы, коих Вы почитаете за ничто. Никогда не забыть мне тот миг, как открыл он впервые изумрудные свои глазки… И вдохнул жадно воздух лесной, смолистый, ветвистый, святой… Зачем Вы убили его, невиновнаго, не причинившаго Вам ни малейшаго зла? Я сидела здесь с Вами возле нашего дуба, любезничала с Вами, обсуждаючи французские и английские романы, кои приносили Вы мне, слушала байки Ваши, исполненныя глупаго хвастовства, исполненныя глупой гордыни Вашей, глядела в похотливыя Ваши глаза — о, если б Вы только ведали, с каким омерзением наблюдала я все вздрагивания и подавленныя порывы Ваши! О, как боялись Вы вспугнуть меня, как трепетали, как изворотливо прятали гнусный пыл истинных желаний Ваших за личиною дружеской учтивости, не зная, что Вы для меня видны как на ладони, как в склянке, как в зеркале, — вместе со всеми Вашими мечтательными поползновениями, столь тошнотворными моей душе. Таким, как Вы, лишь бы согреть смрадное тельце Ваше нашим ласковым теплом, лишь бы облачиться, как в ризу, как в мантию царскую, в наши нежные обволакивающие объятия! На иное мы Вам не годны! Куда Вам знать, на что способна наша сестра! Где Вам знать, что мы можем указывать путь, вести тайными тропами к сокровенному и сокровищному знанию? До троп ли вам тайных, когда опьянены Вы хищным сладострастием своим? Вы мните себя законным хозяином этих мест, этого леса, этого дуба, но не хозяин Вы даже себе самому, да и то сказать: как окоченели бы Вы от неподдельнаго ужаса, случись Вам хоть раз взглянуть в лицо подлинным хозяевам этих мест. Знаете ли Вы, какая древность скрывается в дубе этом — ведь «древность» и «древо» от одного древеснаго корня… Помните ли Вы, как я помню, те незапамятныя времена, когда жертвы приносили этому дубу, как обвивали его златыми цепями и гирляндами живых цветов, как кланялись ему в корни, как молили его о пощаде, о снисхождении… Помните ли, как жертвовали дубу этому золотых петушков и тулупчики заячьи и сжигали подношения священныя в кострах гигантских, чтобы пропитать, чтобы укрепить кору его дымом жертвенным, горько-сладким… Помните ли, как горели, как потрескивали петушки и тулупчики? Помните ли, как сидели на ветвях его влажные и смешливыя русалки? Помните ли, как молились ему бродячие лешие?
Где Вам помнить? В те времена не зачинали ещё даже самого далёкого предка Вашего! А потом явились они сюда, эти гнусные пращуры Ваши, и я видела, как это было, как били пушнину из пушек, как по нашей реке шли лодки, гружённые до бортов окровавленной рухлядью! Обрюзгшие, чугунные, ядроокие бояре Пушкарёвы и Пушкарския вгрызались в горло друг другу, танцуючи в тяжёлых, распахнутых, горностаевых, соболиных, куньих, беличьих шубах. How dare you? Как посмели Вы владеть мною в сладострастных похотениях Ваших? Мною, которая видела и ненавидела уже Ваших самых стародавних предков? Называете себя графами, но не графы вы, а грифы трупоядныя, терзающия своих и чужих мертвецов! Смотрела я в Ваше воспламенённое личико и думала лишь одно: месть, месть, месть. И ещё раз месть. И ещё раз! Но не стану я мстить Вам, потому что нет зла в сердце нашей сестры. Нет зла, есть лишь любовь. Я ненавидела Вас, но полюбила Вас, глупый убийца, глупый и хвастливый золотой петушок. И это письмо есть признание любовное. Как дочитаете строки эти, так немедля идите к дубу — там буду ждать Вас! Ваша Даша Кайгарова.
Никакими словами не смог бы я описать глубочайшее смятение, в какое повергло меня письмо Дарьи Игнатьевны. Она больна, она в горячке — это встало предо мною с совершенной ясностью. Мог ли быть у неё ребёнок, которого она потеряла? Об этом я ничего не знал, но почему называет она меня убийцею её ребёнка? Да, я был убийцей, но какой солдат на войне не убийца? Я убивал в открытом бою, убивал врагов ради защиты и во славу Отчизны своей. Убитые мной были солдатами, и мы на равных возлагали жизни свои на чаши смертельных весов. Но ребёнок её… Мы с нею даже любовниками не были… Да о чём я? Ведь она писала в горячке. Впрочем, я и сам был как в горячке и уже бежал к дубу. Было уже за полночь, мог ли я надеяться увидеть её там? Но она приказала, и я повиновался.
В ту ночь выпал первый, недолгий снег. Тонким светящимся покровом лежал он на чёрной земле. Всё окрест сделалось чёрно-белым, как на гравюрах в моём кабинете. Полная яркая луна освещала мой путь. Вот и дуб. Скамейку нашу покрывала непотревоженная белизна снега. Нетронутый снег. Никого нигде. Ничьих следов не увидел я на свежем снегу. Я постоял возле дуба в оцепенении, затем для чего-то встал на скамью и пошарил рукою в дупле. Письмо! Ещё одно письмо ожидало меня. Я достал из дупла холодный листок и в свете луны прочитал всего лишь одно слово:
d’accord…
Что-то подтолкнуло меня провести пальцем по буквам: они смазались, чернила были совсем свежия! На пальце остался тёмный след. Писали только что! Она где-то здесь, рядом, скрывается… Но как же не осталось следов на снегу? Меня лихорадило, и, несмотря на холод, горячечный пот лился мне на глаза из-под меховой шапки. Я позвал её — сначала робко и тихо, затем громче. И словно со стороны услышал хриплый голос свой, и голос этот звучал дикой смесью отчаяния и безумной надежды… Какой-то звук донёсся до меня в ответ. Как будто кто-то заворочался поблизости. Затем что-то словно бы посыпалось… Снова звук, словно некое крупное тело протискивалось сквозь препоны… Сомнений быть не могло: звук исходил из ствола дуба. Я прижался ухом к его холодной корявой коре: да, нечто ворочалось там, внутри. Скрипы, древесный шорох… Снова что-то посыпалось… Чья-то чёрная голова с острыми и опушёнными ушами стала выдвигаться из дупла. Инстинктивно я схватился за ружьё, но не обнаружил его — я не взял с собой ружья. Неведомое чёрное существо продолжало выпрастываться из древесного ствола. Уж не чорт ли? Хотел осенить себя крестным знамением, но рука мне не повиновалась. Наконец этот некто выпростался, скакнул и уселся на толстой кряжистой ветке прямо надо мной. С ужасом увидел я, что это гигантская чёрная белка, ростом с половину меня. Огромный её изогнутый и пушистый хвост слегка вздрагивал, в антрацитовом меху блестели снежинки. В одной своей лапке она сжимала белое гусиное перо, в другой — чернильницу с откинутой крышкой. И вот на чёрной встопорщенной мордочке её открылись два огромных глаза — изумрудные, полные зелёнаго луннаго света… Открылись и взглянули на меня и на небо.
Я упал на колени, словно что-то толкнуло меня. И в непостижимом порыве склонился до самой земли, коснувшись лбом зернистого снега. И озябшие губы мои прошептали сами собой:
— Я люблю вас. Простите меня. Позвольте мне быть с вами навеки.
После я лишился чувств и упал в снег лицом. Не помню ничего более о той ночи.
Очнулся я в утреннем сиянии, лёжа на своей постели. Передо мною сидел в креслах немец-эскулап, поигрывая новенькими щипцами, ярко блестевшими в солнечных лучах. Сверкали не только щипцы. Сверкало и круглое зеркальце у него на лбу.
— Простите меня, сударь, что заставил вас так долго ждать. Сей отличный прибор только сего дня мне доставили, однако я весьма им доволен. Соблаговолите открыть рот ваш. Сейчас же удалим больной зуб, и вы станете здоровы.
Всю экзекуцию помню как во сне. Немец сработал быстро и уверенно, и вот он уже демонстрировал мне мой удалённый зуб.
— Видите ли, каково дупло? Долго же вам пришлось с ним жить. Вещь тлетворнейшая, неудивительно, если вас слегка лихорадит. Воспаление от больного зуба разлилось по организму, но это пройдёт, mein Herr.
Я почти не слушал его, мне уже всё равно было: зуб ли, дуб ли…
— А что Кайгаровы? — пролепетал я. — Вы ведь их пользуете? Правда ли, что она потеряла ребёнка? И как сам Кайгаров?
— Про ребёнка не скажу — это предмет конфиденциальный. А Кайгарову велел я ехать на воды. Они с супругою вот уже две недели как уехали.
— Как? Уехали? — Я не мог поверить своим ушам.
Немец внезапно не без фривольности погрозил мне сухоньким пальцем.
— А вы ведь времени напрасно не тратите, молодой человек. Очаровали собою Дарью Игнатьевну. Ничто не скроется от глаз старого врача. И очень дальновидно поступили, надо сказать. Genau so… Кайгаров-то совсем плох — скоро отойдёт к праотцам старый негодяй. И Дарья Игнатьевна останется богатейшею вдовою. Verdammt, вам можно завидовать!
Он развязно подмигнул мне и удалился.
Я лежал неподвижно. Мне показалось, что во время операции не ощутил я боли, но тело моё, видимо, всё же испытало её. Только сейчас приметил я, что крепко сжимаю в ладони некий предмет. С трудом я разжал онемевшие пальцы и узрел золотую табакерку своего дядюшки, увенчанную опалом. Незадолго до того приспособил я эту вещицу для собственных курительных нужд. Сдаётся мне, во время операции я так сильно сжимал её, что на ладони моей остался отчётливый оттиск опаловой крышки. Я думал, этот оттиск пребудет навсегда, настолько он был глубок. Но след этот вскоре исчез.
Январь 2023
_
* Александр Сергеевич Пушкин написал пять повестей Белкина. Шестую повесть Белкина написал в 1937 году Михаил Зощенко, снабдив примечательным предисловием. Ныне перед вами седьмая повесть Белкина.

актёр театра и кино
Сергей Епишев
Упрямец.
Восьмая повесть Белкина
Восьмая повесть Белкина
-
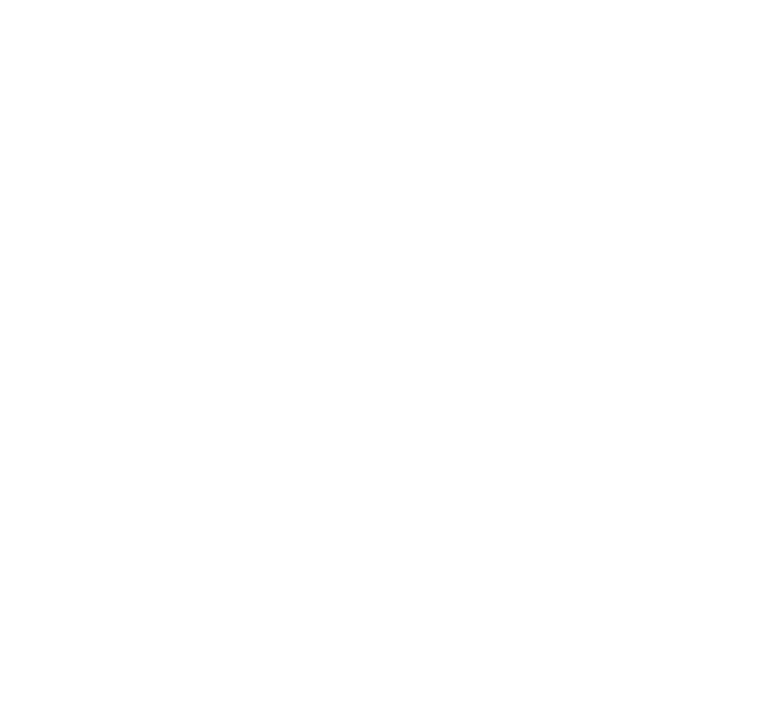 Алексей Сальниковписатель, лауреат премий «Национальный бестселлер» и «НОС»
Алексей Сальниковписатель, лауреат премий «Национальный бестселлер» и «НОС»
Упрямство человеческое — предмет, без всякого сомнения, удивительный, как, впрочем, и многое другое, чем богата натура, но именно упрямство, всякий раз, когда с ним сталкиваюсь, оставляет во мне впечатление невероятной диковины, при виде которой только и остаётся развести руками. Тем оно больше вызывает потрясения, чем дальше переходит в упёртость, которая сродни одержимости, будто у ветхозаветного фараона. Долго ближайшим примером такого поведения оставался мой товарищ по полку Василий Васильевич Н***. Если всё, что касалось службы, он исполнял неукоснительно и отзывчивее товарища трудно было найти, то вопрос о будущем своём, о женитьбе, о семье, когда заходил об этом разговор, являлся для него поводом для самых ядовитых шуток. «Знаете, друзья, — всегда говорил он в таких случаях, при этом взгляд его становился отстранённым, устремлялся куда-то далеко, в некое недоступное окружающим пространство, — я не только свататься ни к кому не буду, но, если мне кто-то знаки внимания будет оказывать, я лучше себя в клетке запру изнутри, а ключ проглочу и лучше подавлюсь им, умру, чем жизнь свою связывать с этими адскими подобиями матери моей и сестры».
Над ним по-доброму подсмеивались, тем более Василий Васильевич был тот ещё волокита, да и красавец, бывал слегка громок, неловок и грубоват, но подобное только идёт великанам вроде него. Кажется, что крупная персона теряет в представительности, если ведёт себя тихо да незаметно. Товарищи, конечно, интересовались, отчего Василий Васильевич испытывает такую антипатию к женщинам, к семейной жизни, но не столько затем, чтобы узнать (многие давно знали, ведь Н*** не скрытничал), а затем только, чтобы ещё раз посмотреть на совершенно искреннее, детское волнение такого, казалось бы, серьёзного офицера в летах (Василию Васильевичу на момент нашего знакомства исполнилось тридцать два года). Из его слов выходило, что, когда отец его скончался, а случилось это в очень раннем возрасте нашего героя, деревенька Незлобиково силами матери превратилась в настоящее бабье царство, что за Василием Васильевичем, пока он не отбыл на учёбу, ходили няньки и гувернантки, что мужского примера ему неоткуда было взять, кроме как из книг, а и те в домашней библиотеке водились лишь душеспасительные. С мальчишками он и не думал водиться, поскольку на двор их не пускали, чтобы они не испортили Васеньку. Вспоминая такое, Василий Васильевич не всегда мог удержаться от нескольких крепких слов. «Я, знаете, не отличался тогда крепким здоровьем, хотя в это сейчас трудно поверить, — замечал Василий Васильевич под хохот окружающих, — вот меня и берегли. Так берегли, что чуть не уморили. И на том спасибо, что отправили в город учиться, и там, хоть и жил я у двоюродной тёти по той же матери, которая нравом своим от матушки недалеко ушла, но всё же повеселее стало среди сверстников, а там уже служба, и вот я тут».
Однажды, по словам Василия Васильевича, он наведался в родные места в надежде, что время сгладило углы между ним и родительницей, тем более в переписке матушка утверждала, что крайне соскучилась, но по приезде мой друг обнаружил, что в доме только добавилось приживалок, юродивых старух, кружев, а следов покойного отца не осталось вовсе, кабинет его был пуст, обе сабли проданы «от греха», натюрморт с дичью «от греха» же потерян неизвестно куда. Только и стало памяти от отца, что дешёвый перстень с вензелем, и Василий Васильевич, боясь, что и эту вещь закатят куда-нибудь по неосторожности и невниманию, попросил его себе, на что получил решительный отказ. Матушка твёрдо отвечала ему: «Всё и так твоё будет, а пока не время. Его иногда Маша любит носить в память о своём дорогом отце. Он и твой, кто же спорит, но у тебя друзья, товарищи, а у неё только я и кольцо это. Железо и картины кровавые ей претят, а колечко — в нём зла нет». От вида того, что сестра почти превратилась в женщину, похожую на мать своей строгостью и чопорностью, а мать превратилась в сущую старуху, почти неотличимую от тех, что жили в её доме, Василий Васильевич принялся бродить по округе и стрелять по воронам, но и за это был отчитан, словно в младенчестве. «Незачем, Васенька, люд пугать, на грех наводить», — сказала мать, сморщив губки. «Да на какой же грех?» — удивился Василий Васильевич, но ему и не ответили ничего. Так он и отбыл к себе в полк в расстроенных чувствах и пребывал в таком состоянии каждый раз, когда размышлял о доме. Через год или два после сего приключения мать сообщила ему в письме, что столь нелюбимая им сестра умерла. Если раньше Василий Васильевич казался беззаботным, то в годы нашего всё большего сближения появилось в нём ожесточение, что ли.
Собственно, переписка с домашними самым прямым образом и послужила укреплению нашей дружбы. Он однажды заехал ко мне в один из тех дней, когда погода не обещает приятной прогулки, но и одинокое сидение под крышей совсем не радует. Причиной этому он назвал возвращение давно взятой книги, но и без слов было понятно, что Василий Васильевич пытался развеять вместе с дождём нахлынувший сплин, потому что для того дела, о котором он сказал, достаточно было послать ко мне денщика. Я как раз доканчивал письмо, в котором дошёл до поклонов и тем и этим, наставлений пороть своего младшего брата, чтобы из него, не дай Боже, не вышел военный, шутя и веселясь, я просил отца направить младшенького по духовной линии. Мне в тот момент это казалось смешно, потому что брат этот давно уже служил во флоте и наставлять его на путь истинный было всё одно поздновато. Я рассмеялся, макая перо в чернильницу, Василий Васильевич поинтересовался причиной моего смеха, чем я с удовольствием поделился. Стал весел и мой гость. Он принялся расспрашивать меня о близких. Я, в свою очередь, так увлёкся, что начал зачитывать ему из писем, что приходили мне довольно часто, едва ли не два раза в неделю, так что я имел полное представление о происходящем не только с матерью, отцом, сёстрами и братом, соседями нашими, но и с прислугой и о том, что случается в деревне, тоже немного знал.
«Удивительно! Всё это интересно на бумаге, — воскликнул я, невольно увлёкшись, — а приедешь, а там невероятная скука!»
С тех пор мы стали встречаться чаще, я не без удовольствия делился с Василием Васильевичем анекдотами о делах семейных, доверил ему и сердечную тайну свою, на что он по обыкновению ответил кислым выражением лица и заметил: «Нет, когда я выйду в отставку, у меня будет только охота и весёлые попойки с соседями, а жена тому не явная, а всё же помеха. Не заманите вы меня, мой дорогой С***, в свой лагерь, даже и не думайте!» А меж тем доверие между нами возросло до такой степени, что однажды он появился на пороге с озадаченным видом и протянул мне письмо. «Вот что я получил вчера, — объяснил он, и показалось, что он смущён, лишь непонятно было, что является причиной этой неловкости: доверительные ли наши отношения, которые Василию Васильевичу, при всей его кажущейся широте, не были присущи, или то, что он, старший мой товарищ, будто бы просил совета у человека гораздо более молодого. — Что бы вы на это сказали, как бы вы на это ответили, если бы имели несчастье?.. В общем, прочтите, прочтите сначала, прошу вас».
«Но смею ли я?» — вырвалось у меня, поскольку при виде смущения Василия Васильевича возникло сомнение, что его поступок с поездкой ко мне, с передачей в руки несомненно очень частного письма — действие обдуманное. В лице Василия Васильевича, обращённом ко мне, вроде бы не произошло изменений, когда я задал такой вопрос, и, движимый именно этой неизменностью его выражения до вопроса и после, я раскрыл бумаги и прочитал следующее:
«Дорогой и любимый сын наш Васенька, здоровья тебе, а всё остальное приложится. Молимся за тебя денно и нощно, как велит материнский долг. Ноша эта не тяжела, а токмо благостна и сладка, но и мы вашими молитвами живы и здоровы, спасибо за заботу. Те три сотни рублей, что ты просил, вышлем не позднее будущей недели, пусти их на доброе дело, не забывай подавать нищим, ибо их молитвами и держится (тут было неразборчиво, чернила расплылись, будто на них капнули слезой). Всё у нас благополучно, только колени подводят и спина, но это ты и так знаешь, и ещё на зрение бы пожаловалась, если бы не старость, зрение всё хуже, но оно у стариков и должно так, чтобы меньше соблазняться всякими глупостями вроде чтения. Новый поп наш о. Михаил, к которому не испытывала должного почтения по причине его молодости, оказался вовсе и не плох. Его сначала почти все встретили нерадушно, а сейчас обратно полюбили как родного. Поначалу-то что вышло. Решили, что он баса Митрофана сглазил, а ещё в опахивание влез, когда сухо было, и бабы его едва батогами не отходили (но тут уж за дело, мы так считаем, что бы ты ни писал про предрассудки).
Но это ты и без меня знаешь, а пишу я отдельным письмом про настоящее чудо, которое произошло со мной вчера, Васенька, и я не думаю, что это глупость, а считаю, что это настоящий знак, что покойная Машуля смотрит на нас с небес и посылает нам посильную помощь и утешение. Давеча гостила у Мышкиных по их давней просьбе, да, впрочем, тебе и неинтересно о наших старушечьих делах, словом, совершила поход, аки Ной до Арарата, — выехала, ещё солнышко светило вовсю, на небе ни тучки, а ближе к их усадьбе налетела гроза, так что вода аж в таратайку нашу и сверху и снизу, думала, там и утопну в дороге, да Бог милостив, уберёг.
Старуха Мышкина меня встретила, приголубила, обогрела, высушила, детки их сбежались, все, от больших до малых, все сочувствие выразили и восхищение моей храбростью. Сели ужинать. Пригласили и гувернантку. И тут садится эта гувернантка за стол, ты прости моё волнение, но я вижу, что никакая это не гувернантка, никакая не мадмуазель Франсуаза, как её представили, а дщерь моя, преставившаяся Машенька, родная моя кровиночка, золотце моё дорогое вернулось!!! Стало тут мне дурно во второй раз за день, но если первый раз дурно стало от непогоды, то тут от настоящего счастья, которого я никак ожидать не могла вдали от дома, да и вообще не могла, Васенька, такого ожидать на своём веку, ничем я грешной своей жизнью такого не заслужила.
Как хочешь, сын, а решила я её переселить к себе и платить ей жалованье, хотя некого ей учить в наших пенатах, и Мышкины уже согласились, хотя сначала приняли всё за причуду мою (они никакого сходства не видят), а она, упрямица, точно Машенька наша, наотрез сначала отказалась переселяться, я сначала подумала — цену себе набивает, а потом всё присматриваюсь — а личико строгое, как за уроком, когда она малюткой набело всё переписывала, старалась, чтобы без единой помарки, без единой ошибки в грамматике, нет, думаю, дело не в цене. И точно! Стала с ней объясняться, а мне с кем на французском говорить? В лесу с медведями? Так, ругнусь иногда по старой памяти. А Франсуаза знает некоторые слова по-нашему, а тоже не очень понимает. Тут ей вокруг стали все объяснять, так и так, уж она краснела, бледнела, ручки тряслись, а всё же сжалилась надо мной. И вот теперь живёт она у нас. Не знаю, насколько её хватит. Но мне она прямо утешение. Строгая, серьёзная, ну чисто монашка. И брани меня сколько хочешь, пускай это и причуда, а не отступлюсь. Я и без тебя знаю, насколько сие не от большого моего ума. Бабы шепчутся промеж собой, мол, сходства нету никакого, а она иногда головку этак повернёт, глянет голубком — тайком крестятся, будто покойницу увидели. Налюбоваться на неё не могу, шаги её лёгкие слышу, и тепло на душе стаёт».
Много чего там ещё было об этой Франсуазе доброго сказано, прежде чем мать Василия Васильевича перешла к неизменным в наших письмах поклонам и от Франсуазы был передан поклон. Всё время, пока я читал, друг мой сидел неподвижно, лишь задумчиво жевал ус, и если я поднимал голову от письма, то видел его внимательный взгляд, в котором угадывались ярость и волнение. «Это ж надо было придумать, пригреть мошенницу! Мало ей тех, что трутся вокруг, не продохнуть», — не сдержался мой друг, торопливо принимая письмо обратно.
«Погодите судить, Василий Васильевич, может быть, она совсем не такова. Похоже на то, что Франсуаза вовсе не ожидала подобного исхода из путешествия в русскую провинцию», — заступился я за гувернантку.
«Да где же не ожидала! Среди их братии мошенник на мошеннике и мошенником погоняет! — категорично отозвался мой бедный товарищ. — Вот увидите, она ещё себя покажет!»
«Да что же это бедное создание может, как вы изволили выразиться, „показать“?» — удивился я. «Вот видите! — почти восторженно отвечал Василий Васильевич. — Она даже на расстоянии умудрилась вас увлечь, что же говорить о неумной моей матушке!»
Как мог, я успокаивал и успокоил Василия Васильевича, но ровно до следующего письма. С ним он явился торжествующий и даже зловещий. Это, на расстоянии, противостояние сына и матери, вопреки здравому смыслу, становилось для меня даже любопытным. Я в толк не мог взять, чего хотят друг от друга эти два близкие человека, но оба что-то, несомненно, пытались доказать друг другу, настоять на своём, но именно «своё» я и не мог понять, не в силах был уразуметь, в чём это «своё» каждого из них заключается. Возьму на себя смелость предположить, что они тоже не особенно понимали, из-за чего между ними пробежала кошка.
«…наставление твоё гнать Франсуазу взашей я, конечно, не поддержала, — почти сходу зачитал мне Василий Васильевич, — фи, как грубо, Васенька. Мне очевидно, что армейская обстановка делает тебя похожим на покойника-отца, у того даже кровь к лицу приливала, если что-нибудь шло не по его, неужели ты такой же стал? Неужели сестринская и материнская любовь не принесли плодов, неужели наше ласковое обращение пропало? Не могу в это поверить! Думаю, всё дело в том, что ты не видел сие кроткое создание, сего ангела небесного, ниспосланного тут нам всем в утешение. А как она поёт! Слёз удержать невозможно, до чего трогательно! Такая-то она помощница мне во всех моих делах, такая-то спорая да послушная, передать невозможно. Я ей четыре Машиных платья подарила, она долго отнекивалась, но я настояла, и она взяла. Правда, не носит, ну да, может быть, обвыкнется да и наденет, приказывать ей не хочу, настолько уж у нас всё хорошо».
«Так бы она меня спрашивала, хорошо или не хорошо! — возмутился Василий Васильевич после этих слов. — Со мной разговор короткий был!»
«Не хочу быть таким же непримиримым, как вы, — не мог не возразить я. — Мы ничего не знаем про эту девушку. Для меня это выглядит так: испытывая жалость к вашей матушке, она вошла к вам в дом, старается быть к месту, насколько понимаю, не ленится, делает всё, чтобы понравиться, кажется, вполне честна в своих устремлениях».
Василий Васильевич горько рассмеялся в ответ: «Вы сами посмотрите, милый друг, как она тонко матушку в оборот берёт, ещё и нос задирает — не буду носить! Это сейчас, а что потом будет? Что будет потом, я вам скажу!»
«И что же?» — заинтересовался я, но никак не ожидал, какие выводы сделал уже Василий Васильевич из писем своей maman.
«Это тонкая игра, присущая женщинам, и эту игру обе они ведут против меня. И чувствует моё сердце, что меня собираются женить!» — уверенным голосом заключил Василий Васильевич.
От моего хохота залаяла во дворе собака, а в кабинет осторожно заглянул кто-то из слуг (хотя и полагалось бы постучать, но все мы знаем, насколько слуги бывают вежливы и предупредительны).
«Да каким же таким образом это возможно сделать? Как вас можно женить?» — изумился я. Василий Васильевич возражал: «А как выходит у остальных? Как все в конце концов оказываются женаты. Только что был гуляка, задира, весельчак — фьюить! — и уже отец семейства! Вроде бы только вчера видел г-на такого-то (в порыве искреннего чувства Василий Васильевич приложил руку к груди), вот, помнишь, только на днях перекинулся с ним парой слов — и словно занавес опускается, поднимается, а он уже отец семейства, и у него, оказывается, пятеро детей! Как такое возможно? Ничто не предвещало подобного исхода! Больше скажу, и времени столько не прошло, чтобы у приятеля появилась жена, а тем более дети. И живот! А всё это при нём! Есть нечто загадочное в появлении семьи из ниоткуда, что-то такое от колдовства. Вот мне и кажется, что матушка действует ради этого. Не знаю, какие хитрости она придумала, но буквально ощущаю, что всё делается ради того, чтобы я был женат».
На все мои возражения Василий Васильевич отвечал подобным образом и ходил из угла в угол, как пойманный зверь. Я находился в полной уверенности, что ничего не сможет переубедить моего доброго друга в его подозрениях. Утешение, впрочем, пришло к нему довольно неожиданным образом, пусть и не сразу, а понадобилось на это ещё несколько дней, за которые очередное письмо оказалось в руках моего друга. В письме сообщалось, что матушка Василия Васильевича принудила Франсуазу носить на пальце перстень своего покойного мужа, дабы усилить сходство с умершей дочерью. Опять Франсуаза возражала и принялась было собирать вещи, но, видя слёзы, слыша мольбы, смирилась и подчинилась очередной фантазии m-me Н***.
Василий Васильевич находился в противоположных чувствах. Очевидно, он испытывал бешенство по поводу перстня, и не мог не испытывать, как я мог судить по словам, сказанным им прежде про дорогую ему реликвию. Но подозрения его насчёт надевания на него семейного хомута (он пользовался порой таким выражением) если не развеялись вовсе, то он их немного поумерил.
«Вот видите! — заметил я ему беззаботно. — Даже если подозревать самое худшее, а именно что Франсуаза ваша („Не моя“, — успел вставить Василий Васильевич), что она само исчадие ада, склонное к тому греху, в котором постоянно подозревают слуг, то самое большее, что вам грозит, — исчезновение мелких вещей из дому. И матушка ваша. Не может же она, в конце концов, завлечь вас, даже если предположить подобное, опутать вас семейными узами с гувернанткой, наряжая её как вашу сестру. Такое даже звучит в высшей степени странно! Причём звучит странно в обоих случаях: и то, что вас пытаются женить на гувернантке-француженке, и то, что для этого её наряжают вашей сестрой».
«Покойной сестрой, — зачем-то напомнил Василий Васильевич. — И это тоже довольно… — Лицо его вспыхнуло от гнева, и он вскрикнул: — Но как матушка могла поступить так! Она же знает, насколько дорог мне этот перстень! Что пусть хоть всё сгорит, лишь бы перстень уцелел! Два только предмета остались у меня, которые связывают меня с отцом: воспоминание о том, как он однажды, отвлёкшись от своих дел, принялся мне что-то читать, и я уже не помню, какая это была книга, но помню его сдвинутые брови, его голос, то, каким отец казался огромным — и до сих пор кажется, хотя я и сам не маленького росту; и перстень. И кажется: не станет перстня — и воспоминания не останется. Неужели такое можно давать кому попало! Неужели можно так поддаться нелепой игре, воображая, что дочь вернулась из могилы в другом обличье?»
Он бушевал какое-то время. Но на следующий день уже успокоился. Я связал перемену в его настроении с тем, что как ни крути, а на родине у него не могло уже происходить что-то сверх того, что уже случилось. А человек, зная, где находится предел его терпения, волей-неволей смиряется, даже человек вспыльчивый. Насколько я знал, Франсуаза жила при маменьке Василия Васильевича ещё несколько лет, затем нас с моим товарищем разбросало по разным полкам, и связь наша незаметно прервалась, до меня доходили только отдельные сведения о нём. Так, я знал, что во время войны 12-го года он потерял ногу, вышел в отставку в чине капитана. К тому времени как из случайной беседы с общими знакомыми выяснилось, что Василий Васильевич женился, я и сам был давно женат, но эта новость меня крайне удивила. Не сумев победить любопытства, я собрался в Незлобиково. Пережив несколько привычных в наших краях приключений на станциях и между ними, а именно: неизменную поломку экипажа, блуждание в непогоду, непередаваемую никакими словами задумчивую грусть кучера, которую он распространял вокруг себя, как водочный дух, едва не случившееся столкновение с почтовой тройкой, — в один из погожих дней я добрался до обиталища Василия Васильевича. Он встретил меня радостно. Вопреки предрассудкам о женатых людях, он не раздобрел, а выглядел будто даже моложе, чем я его помнил. Живо двигаясь на своей деревяшке, он показал, чем живёт и как. Предупредив мои расспросы, он, сияя улыбкой, сообщил, что жена поехала погулять с детьми и вернётся только вечером. Я не мог не поинтересоваться, чем закончилась его история с матушкой и Франсуазой. Он проводил меня в свой светлый кабинет, обставленный со вкусом далекого от столицы господина, там же опрокинул рюмочку сверх тех трёх, что выпил за нашим совместным обедом, и принялся за рассказ.
Даже после ранения он продолжал оставаться при своём полку, несмотря на уговоры матушки вернуться. Но тут пошли письма, что она совсем плоха, и Василий Васильевич поспешил, наконец, домой, но не успел. M-me Н*** похоронили без него, и он застал уже сиротливое хозяйство, дворню, то ли печалившуюся по бывшей хозяйке, то ли тоскующую, что приехал непутёвый сын её и теперь дела пойдут неизвестно каким образом. Почему-то ходили слухи, что Василий Васильевич намеревается «собрать киатр».
Франсуазу Василий Васильевич уже не застал. Как не обнаружил и отцовского перстня. Узнав, что гостья перебралась обратно к соседям, мой друг направил стопы туда и попросил объясниться. «Хорошо, что хватило ума не позорить её при всех! — радостно вздыхал Василий Васильевич. — Отговорился от Мышкиных тем, что хочу спокойно послушать о последних днях несчастной моей матери. И вот я спрашиваю её, как так вышло, что нет перстня после её ухода из нашего дома. Не забыла ли она случайно снять его с пальца, когда уезжала? А она побледнела и спрашивает, причём на русском — совсем тут среди наших пообтесалась, — дескать, как так вышло, что я смею приступать к ней с такими вопросами, честно ли это для благородного господина, которым я, без сомнения, являюсь, задавать такие вопросы. А у самой глаза горят от гнева, так бы голову и оторвала мне, если бы могла!»
Василий Васильевич восхищённо крякнул и даже вспотел от неловкости при этом воспоминании, тем более, как он поведал, перстень нашёлся дома, неизвестно, правда, что за чудо его вернуло в один из ящиков стола, которые мой друг чуть ли не перевернул до этого, но уж что вышло, то вышло. С той же спешкой и тем жаром, какими он отличился в своих обвинениях, Василий Васильевич снова поспешил к Мышкиным, а вернее, к Франсуазе. Она спокойно выслушала его, но даже бровью не повела ни разу при его многократных извинениях. «И чем же я могу заслужить ваше прощение?» — спросил он тогда. «Ничем, — отвечала она твёрдо. — Вы сами себя простите. Бог вас простит. А я никогда не смогу забыть этого несправедливого обвинения. И прекратите ходить ко мне. Это становится неприлично, обо мне могут нехорошо подумать. Убирайтесь, или я сама покину это место по вашей, опять же, вине».
«И что же? — спросил я. — Вы смогли добиться прощения?»
Василий Васильевич не успел ответить, потому что раздался шум, смех, вещи в доме задвигались будто сами собой, в кабинет ворвалась дама невероятно стройная, высокая, под стать Василию Васильевичу, не заметив моего присутствия, она обняла моего друга и сказала:
«Я уже распорядилась подать тебе чаю. Я точно знаю, что в это время ты как раз предпочитаешь чай».
«Да где ж люблю! — возразил Василий Васильевич. — Вздремнуть в это время могу, но чай! Не припомню такого!»
«Да где же нет, когда ты всегда просишь чаю без десяти пять!»
«Да нет же!»
«Да где же нет, когда да!»
«Да где же да, когда нет!»
«Эге!» — подумал я, пытаясь скрыть улыбку, которая выдала бы то, что я понял конец истории Василия Васильевича до того, как он сам её расскажет.
Однажды, по словам Василия Васильевича, он наведался в родные места в надежде, что время сгладило углы между ним и родительницей, тем более в переписке матушка утверждала, что крайне соскучилась, но по приезде мой друг обнаружил, что в доме только добавилось приживалок, юродивых старух, кружев, а следов покойного отца не осталось вовсе, кабинет его был пуст, обе сабли проданы «от греха», натюрморт с дичью «от греха» же потерян неизвестно куда. Только и стало памяти от отца, что дешёвый перстень с вензелем, и Василий Васильевич, боясь, что и эту вещь закатят куда-нибудь по неосторожности и невниманию, попросил его себе, на что получил решительный отказ. Матушка твёрдо отвечала ему: «Всё и так твоё будет, а пока не время. Его иногда Маша любит носить в память о своём дорогом отце. Он и твой, кто же спорит, но у тебя друзья, товарищи, а у неё только я и кольцо это. Железо и картины кровавые ей претят, а колечко — в нём зла нет». От вида того, что сестра почти превратилась в женщину, похожую на мать своей строгостью и чопорностью, а мать превратилась в сущую старуху, почти неотличимую от тех, что жили в её доме, Василий Васильевич принялся бродить по округе и стрелять по воронам, но и за это был отчитан, словно в младенчестве. «Незачем, Васенька, люд пугать, на грех наводить», — сказала мать, сморщив губки. «Да на какой же грех?» — удивился Василий Васильевич, но ему и не ответили ничего. Так он и отбыл к себе в полк в расстроенных чувствах и пребывал в таком состоянии каждый раз, когда размышлял о доме. Через год или два после сего приключения мать сообщила ему в письме, что столь нелюбимая им сестра умерла. Если раньше Василий Васильевич казался беззаботным, то в годы нашего всё большего сближения появилось в нём ожесточение, что ли.
Собственно, переписка с домашними самым прямым образом и послужила укреплению нашей дружбы. Он однажды заехал ко мне в один из тех дней, когда погода не обещает приятной прогулки, но и одинокое сидение под крышей совсем не радует. Причиной этому он назвал возвращение давно взятой книги, но и без слов было понятно, что Василий Васильевич пытался развеять вместе с дождём нахлынувший сплин, потому что для того дела, о котором он сказал, достаточно было послать ко мне денщика. Я как раз доканчивал письмо, в котором дошёл до поклонов и тем и этим, наставлений пороть своего младшего брата, чтобы из него, не дай Боже, не вышел военный, шутя и веселясь, я просил отца направить младшенького по духовной линии. Мне в тот момент это казалось смешно, потому что брат этот давно уже служил во флоте и наставлять его на путь истинный было всё одно поздновато. Я рассмеялся, макая перо в чернильницу, Василий Васильевич поинтересовался причиной моего смеха, чем я с удовольствием поделился. Стал весел и мой гость. Он принялся расспрашивать меня о близких. Я, в свою очередь, так увлёкся, что начал зачитывать ему из писем, что приходили мне довольно часто, едва ли не два раза в неделю, так что я имел полное представление о происходящем не только с матерью, отцом, сёстрами и братом, соседями нашими, но и с прислугой и о том, что случается в деревне, тоже немного знал.
«Удивительно! Всё это интересно на бумаге, — воскликнул я, невольно увлёкшись, — а приедешь, а там невероятная скука!»
С тех пор мы стали встречаться чаще, я не без удовольствия делился с Василием Васильевичем анекдотами о делах семейных, доверил ему и сердечную тайну свою, на что он по обыкновению ответил кислым выражением лица и заметил: «Нет, когда я выйду в отставку, у меня будет только охота и весёлые попойки с соседями, а жена тому не явная, а всё же помеха. Не заманите вы меня, мой дорогой С***, в свой лагерь, даже и не думайте!» А меж тем доверие между нами возросло до такой степени, что однажды он появился на пороге с озадаченным видом и протянул мне письмо. «Вот что я получил вчера, — объяснил он, и показалось, что он смущён, лишь непонятно было, что является причиной этой неловкости: доверительные ли наши отношения, которые Василию Васильевичу, при всей его кажущейся широте, не были присущи, или то, что он, старший мой товарищ, будто бы просил совета у человека гораздо более молодого. — Что бы вы на это сказали, как бы вы на это ответили, если бы имели несчастье?.. В общем, прочтите, прочтите сначала, прошу вас».
«Но смею ли я?» — вырвалось у меня, поскольку при виде смущения Василия Васильевича возникло сомнение, что его поступок с поездкой ко мне, с передачей в руки несомненно очень частного письма — действие обдуманное. В лице Василия Васильевича, обращённом ко мне, вроде бы не произошло изменений, когда я задал такой вопрос, и, движимый именно этой неизменностью его выражения до вопроса и после, я раскрыл бумаги и прочитал следующее:
«Дорогой и любимый сын наш Васенька, здоровья тебе, а всё остальное приложится. Молимся за тебя денно и нощно, как велит материнский долг. Ноша эта не тяжела, а токмо благостна и сладка, но и мы вашими молитвами живы и здоровы, спасибо за заботу. Те три сотни рублей, что ты просил, вышлем не позднее будущей недели, пусти их на доброе дело, не забывай подавать нищим, ибо их молитвами и держится (тут было неразборчиво, чернила расплылись, будто на них капнули слезой). Всё у нас благополучно, только колени подводят и спина, но это ты и так знаешь, и ещё на зрение бы пожаловалась, если бы не старость, зрение всё хуже, но оно у стариков и должно так, чтобы меньше соблазняться всякими глупостями вроде чтения. Новый поп наш о. Михаил, к которому не испытывала должного почтения по причине его молодости, оказался вовсе и не плох. Его сначала почти все встретили нерадушно, а сейчас обратно полюбили как родного. Поначалу-то что вышло. Решили, что он баса Митрофана сглазил, а ещё в опахивание влез, когда сухо было, и бабы его едва батогами не отходили (но тут уж за дело, мы так считаем, что бы ты ни писал про предрассудки).
Но это ты и без меня знаешь, а пишу я отдельным письмом про настоящее чудо, которое произошло со мной вчера, Васенька, и я не думаю, что это глупость, а считаю, что это настоящий знак, что покойная Машуля смотрит на нас с небес и посылает нам посильную помощь и утешение. Давеча гостила у Мышкиных по их давней просьбе, да, впрочем, тебе и неинтересно о наших старушечьих делах, словом, совершила поход, аки Ной до Арарата, — выехала, ещё солнышко светило вовсю, на небе ни тучки, а ближе к их усадьбе налетела гроза, так что вода аж в таратайку нашу и сверху и снизу, думала, там и утопну в дороге, да Бог милостив, уберёг.
Старуха Мышкина меня встретила, приголубила, обогрела, высушила, детки их сбежались, все, от больших до малых, все сочувствие выразили и восхищение моей храбростью. Сели ужинать. Пригласили и гувернантку. И тут садится эта гувернантка за стол, ты прости моё волнение, но я вижу, что никакая это не гувернантка, никакая не мадмуазель Франсуаза, как её представили, а дщерь моя, преставившаяся Машенька, родная моя кровиночка, золотце моё дорогое вернулось!!! Стало тут мне дурно во второй раз за день, но если первый раз дурно стало от непогоды, то тут от настоящего счастья, которого я никак ожидать не могла вдали от дома, да и вообще не могла, Васенька, такого ожидать на своём веку, ничем я грешной своей жизнью такого не заслужила.
Как хочешь, сын, а решила я её переселить к себе и платить ей жалованье, хотя некого ей учить в наших пенатах, и Мышкины уже согласились, хотя сначала приняли всё за причуду мою (они никакого сходства не видят), а она, упрямица, точно Машенька наша, наотрез сначала отказалась переселяться, я сначала подумала — цену себе набивает, а потом всё присматриваюсь — а личико строгое, как за уроком, когда она малюткой набело всё переписывала, старалась, чтобы без единой помарки, без единой ошибки в грамматике, нет, думаю, дело не в цене. И точно! Стала с ней объясняться, а мне с кем на французском говорить? В лесу с медведями? Так, ругнусь иногда по старой памяти. А Франсуаза знает некоторые слова по-нашему, а тоже не очень понимает. Тут ей вокруг стали все объяснять, так и так, уж она краснела, бледнела, ручки тряслись, а всё же сжалилась надо мной. И вот теперь живёт она у нас. Не знаю, насколько её хватит. Но мне она прямо утешение. Строгая, серьёзная, ну чисто монашка. И брани меня сколько хочешь, пускай это и причуда, а не отступлюсь. Я и без тебя знаю, насколько сие не от большого моего ума. Бабы шепчутся промеж собой, мол, сходства нету никакого, а она иногда головку этак повернёт, глянет голубком — тайком крестятся, будто покойницу увидели. Налюбоваться на неё не могу, шаги её лёгкие слышу, и тепло на душе стаёт».
Много чего там ещё было об этой Франсуазе доброго сказано, прежде чем мать Василия Васильевича перешла к неизменным в наших письмах поклонам и от Франсуазы был передан поклон. Всё время, пока я читал, друг мой сидел неподвижно, лишь задумчиво жевал ус, и если я поднимал голову от письма, то видел его внимательный взгляд, в котором угадывались ярость и волнение. «Это ж надо было придумать, пригреть мошенницу! Мало ей тех, что трутся вокруг, не продохнуть», — не сдержался мой друг, торопливо принимая письмо обратно.
«Погодите судить, Василий Васильевич, может быть, она совсем не такова. Похоже на то, что Франсуаза вовсе не ожидала подобного исхода из путешествия в русскую провинцию», — заступился я за гувернантку.
«Да где же не ожидала! Среди их братии мошенник на мошеннике и мошенником погоняет! — категорично отозвался мой бедный товарищ. — Вот увидите, она ещё себя покажет!»
«Да что же это бедное создание может, как вы изволили выразиться, „показать“?» — удивился я. «Вот видите! — почти восторженно отвечал Василий Васильевич. — Она даже на расстоянии умудрилась вас увлечь, что же говорить о неумной моей матушке!»
Как мог, я успокаивал и успокоил Василия Васильевича, но ровно до следующего письма. С ним он явился торжествующий и даже зловещий. Это, на расстоянии, противостояние сына и матери, вопреки здравому смыслу, становилось для меня даже любопытным. Я в толк не мог взять, чего хотят друг от друга эти два близкие человека, но оба что-то, несомненно, пытались доказать друг другу, настоять на своём, но именно «своё» я и не мог понять, не в силах был уразуметь, в чём это «своё» каждого из них заключается. Возьму на себя смелость предположить, что они тоже не особенно понимали, из-за чего между ними пробежала кошка.
«…наставление твоё гнать Франсуазу взашей я, конечно, не поддержала, — почти сходу зачитал мне Василий Васильевич, — фи, как грубо, Васенька. Мне очевидно, что армейская обстановка делает тебя похожим на покойника-отца, у того даже кровь к лицу приливала, если что-нибудь шло не по его, неужели ты такой же стал? Неужели сестринская и материнская любовь не принесли плодов, неужели наше ласковое обращение пропало? Не могу в это поверить! Думаю, всё дело в том, что ты не видел сие кроткое создание, сего ангела небесного, ниспосланного тут нам всем в утешение. А как она поёт! Слёз удержать невозможно, до чего трогательно! Такая-то она помощница мне во всех моих делах, такая-то спорая да послушная, передать невозможно. Я ей четыре Машиных платья подарила, она долго отнекивалась, но я настояла, и она взяла. Правда, не носит, ну да, может быть, обвыкнется да и наденет, приказывать ей не хочу, настолько уж у нас всё хорошо».
«Так бы она меня спрашивала, хорошо или не хорошо! — возмутился Василий Васильевич после этих слов. — Со мной разговор короткий был!»
«Не хочу быть таким же непримиримым, как вы, — не мог не возразить я. — Мы ничего не знаем про эту девушку. Для меня это выглядит так: испытывая жалость к вашей матушке, она вошла к вам в дом, старается быть к месту, насколько понимаю, не ленится, делает всё, чтобы понравиться, кажется, вполне честна в своих устремлениях».
Василий Васильевич горько рассмеялся в ответ: «Вы сами посмотрите, милый друг, как она тонко матушку в оборот берёт, ещё и нос задирает — не буду носить! Это сейчас, а что потом будет? Что будет потом, я вам скажу!»
«И что же?» — заинтересовался я, но никак не ожидал, какие выводы сделал уже Василий Васильевич из писем своей maman.
«Это тонкая игра, присущая женщинам, и эту игру обе они ведут против меня. И чувствует моё сердце, что меня собираются женить!» — уверенным голосом заключил Василий Васильевич.
От моего хохота залаяла во дворе собака, а в кабинет осторожно заглянул кто-то из слуг (хотя и полагалось бы постучать, но все мы знаем, насколько слуги бывают вежливы и предупредительны).
«Да каким же таким образом это возможно сделать? Как вас можно женить?» — изумился я. Василий Васильевич возражал: «А как выходит у остальных? Как все в конце концов оказываются женаты. Только что был гуляка, задира, весельчак — фьюить! — и уже отец семейства! Вроде бы только вчера видел г-на такого-то (в порыве искреннего чувства Василий Васильевич приложил руку к груди), вот, помнишь, только на днях перекинулся с ним парой слов — и словно занавес опускается, поднимается, а он уже отец семейства, и у него, оказывается, пятеро детей! Как такое возможно? Ничто не предвещало подобного исхода! Больше скажу, и времени столько не прошло, чтобы у приятеля появилась жена, а тем более дети. И живот! А всё это при нём! Есть нечто загадочное в появлении семьи из ниоткуда, что-то такое от колдовства. Вот мне и кажется, что матушка действует ради этого. Не знаю, какие хитрости она придумала, но буквально ощущаю, что всё делается ради того, чтобы я был женат».
На все мои возражения Василий Васильевич отвечал подобным образом и ходил из угла в угол, как пойманный зверь. Я находился в полной уверенности, что ничего не сможет переубедить моего доброго друга в его подозрениях. Утешение, впрочем, пришло к нему довольно неожиданным образом, пусть и не сразу, а понадобилось на это ещё несколько дней, за которые очередное письмо оказалось в руках моего друга. В письме сообщалось, что матушка Василия Васильевича принудила Франсуазу носить на пальце перстень своего покойного мужа, дабы усилить сходство с умершей дочерью. Опять Франсуаза возражала и принялась было собирать вещи, но, видя слёзы, слыша мольбы, смирилась и подчинилась очередной фантазии m-me Н***.
Василий Васильевич находился в противоположных чувствах. Очевидно, он испытывал бешенство по поводу перстня, и не мог не испытывать, как я мог судить по словам, сказанным им прежде про дорогую ему реликвию. Но подозрения его насчёт надевания на него семейного хомута (он пользовался порой таким выражением) если не развеялись вовсе, то он их немного поумерил.
«Вот видите! — заметил я ему беззаботно. — Даже если подозревать самое худшее, а именно что Франсуаза ваша („Не моя“, — успел вставить Василий Васильевич), что она само исчадие ада, склонное к тому греху, в котором постоянно подозревают слуг, то самое большее, что вам грозит, — исчезновение мелких вещей из дому. И матушка ваша. Не может же она, в конце концов, завлечь вас, даже если предположить подобное, опутать вас семейными узами с гувернанткой, наряжая её как вашу сестру. Такое даже звучит в высшей степени странно! Причём звучит странно в обоих случаях: и то, что вас пытаются женить на гувернантке-француженке, и то, что для этого её наряжают вашей сестрой».
«Покойной сестрой, — зачем-то напомнил Василий Васильевич. — И это тоже довольно… — Лицо его вспыхнуло от гнева, и он вскрикнул: — Но как матушка могла поступить так! Она же знает, насколько дорог мне этот перстень! Что пусть хоть всё сгорит, лишь бы перстень уцелел! Два только предмета остались у меня, которые связывают меня с отцом: воспоминание о том, как он однажды, отвлёкшись от своих дел, принялся мне что-то читать, и я уже не помню, какая это была книга, но помню его сдвинутые брови, его голос, то, каким отец казался огромным — и до сих пор кажется, хотя я и сам не маленького росту; и перстень. И кажется: не станет перстня — и воспоминания не останется. Неужели такое можно давать кому попало! Неужели можно так поддаться нелепой игре, воображая, что дочь вернулась из могилы в другом обличье?»
Он бушевал какое-то время. Но на следующий день уже успокоился. Я связал перемену в его настроении с тем, что как ни крути, а на родине у него не могло уже происходить что-то сверх того, что уже случилось. А человек, зная, где находится предел его терпения, волей-неволей смиряется, даже человек вспыльчивый. Насколько я знал, Франсуаза жила при маменьке Василия Васильевича ещё несколько лет, затем нас с моим товарищем разбросало по разным полкам, и связь наша незаметно прервалась, до меня доходили только отдельные сведения о нём. Так, я знал, что во время войны 12-го года он потерял ногу, вышел в отставку в чине капитана. К тому времени как из случайной беседы с общими знакомыми выяснилось, что Василий Васильевич женился, я и сам был давно женат, но эта новость меня крайне удивила. Не сумев победить любопытства, я собрался в Незлобиково. Пережив несколько привычных в наших краях приключений на станциях и между ними, а именно: неизменную поломку экипажа, блуждание в непогоду, непередаваемую никакими словами задумчивую грусть кучера, которую он распространял вокруг себя, как водочный дух, едва не случившееся столкновение с почтовой тройкой, — в один из погожих дней я добрался до обиталища Василия Васильевича. Он встретил меня радостно. Вопреки предрассудкам о женатых людях, он не раздобрел, а выглядел будто даже моложе, чем я его помнил. Живо двигаясь на своей деревяшке, он показал, чем живёт и как. Предупредив мои расспросы, он, сияя улыбкой, сообщил, что жена поехала погулять с детьми и вернётся только вечером. Я не мог не поинтересоваться, чем закончилась его история с матушкой и Франсуазой. Он проводил меня в свой светлый кабинет, обставленный со вкусом далекого от столицы господина, там же опрокинул рюмочку сверх тех трёх, что выпил за нашим совместным обедом, и принялся за рассказ.
Даже после ранения он продолжал оставаться при своём полку, несмотря на уговоры матушки вернуться. Но тут пошли письма, что она совсем плоха, и Василий Васильевич поспешил, наконец, домой, но не успел. M-me Н*** похоронили без него, и он застал уже сиротливое хозяйство, дворню, то ли печалившуюся по бывшей хозяйке, то ли тоскующую, что приехал непутёвый сын её и теперь дела пойдут неизвестно каким образом. Почему-то ходили слухи, что Василий Васильевич намеревается «собрать киатр».
Франсуазу Василий Васильевич уже не застал. Как не обнаружил и отцовского перстня. Узнав, что гостья перебралась обратно к соседям, мой друг направил стопы туда и попросил объясниться. «Хорошо, что хватило ума не позорить её при всех! — радостно вздыхал Василий Васильевич. — Отговорился от Мышкиных тем, что хочу спокойно послушать о последних днях несчастной моей матери. И вот я спрашиваю её, как так вышло, что нет перстня после её ухода из нашего дома. Не забыла ли она случайно снять его с пальца, когда уезжала? А она побледнела и спрашивает, причём на русском — совсем тут среди наших пообтесалась, — дескать, как так вышло, что я смею приступать к ней с такими вопросами, честно ли это для благородного господина, которым я, без сомнения, являюсь, задавать такие вопросы. А у самой глаза горят от гнева, так бы голову и оторвала мне, если бы могла!»
Василий Васильевич восхищённо крякнул и даже вспотел от неловкости при этом воспоминании, тем более, как он поведал, перстень нашёлся дома, неизвестно, правда, что за чудо его вернуло в один из ящиков стола, которые мой друг чуть ли не перевернул до этого, но уж что вышло, то вышло. С той же спешкой и тем жаром, какими он отличился в своих обвинениях, Василий Васильевич снова поспешил к Мышкиным, а вернее, к Франсуазе. Она спокойно выслушала его, но даже бровью не повела ни разу при его многократных извинениях. «И чем же я могу заслужить ваше прощение?» — спросил он тогда. «Ничем, — отвечала она твёрдо. — Вы сами себя простите. Бог вас простит. А я никогда не смогу забыть этого несправедливого обвинения. И прекратите ходить ко мне. Это становится неприлично, обо мне могут нехорошо подумать. Убирайтесь, или я сама покину это место по вашей, опять же, вине».
«И что же? — спросил я. — Вы смогли добиться прощения?»
Василий Васильевич не успел ответить, потому что раздался шум, смех, вещи в доме задвигались будто сами собой, в кабинет ворвалась дама невероятно стройная, высокая, под стать Василию Васильевичу, не заметив моего присутствия, она обняла моего друга и сказала:
«Я уже распорядилась подать тебе чаю. Я точно знаю, что в это время ты как раз предпочитаешь чай».
«Да где ж люблю! — возразил Василий Васильевич. — Вздремнуть в это время могу, но чай! Не припомню такого!»
«Да где же нет, когда ты всегда просишь чаю без десяти пять!»
«Да нет же!»
«Да где же нет, когда да!»
«Да где же да, когда нет!»
«Эге!» — подумал я, пытаясь скрыть улыбку, которая выдала бы то, что я понял конец истории Василия Васильевича до того, как он сам её расскажет.

актёр театра и кино
Сергей Епишев
Капитан запаса.
Девятая повесть Белкина
Девятая повесть Белкина
-
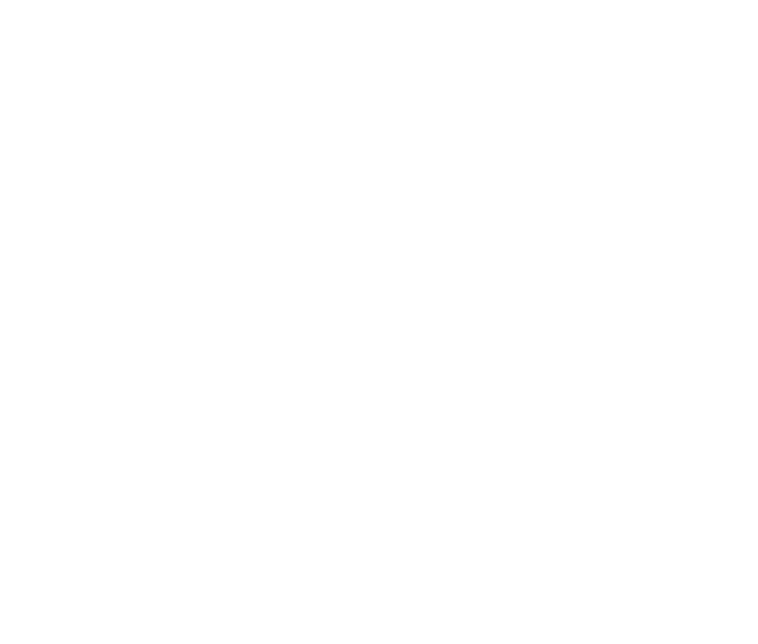 Роман Сенчинписатель, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна»
Роман Сенчинписатель, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна»
Теперь, когда сотни тысяч людей снялись с насиженных мест в поисках безопасности и лучшей доли, вспоминается мне нечто подобное, происходившее тридцать лет назад. Вихрь перемен разваливал мою родную страну, как обветшалый дом, кружил, словно песчинки, эти сотни тысяч, а может быть, и миллионы. И летели они непонятно куда, но надеясь, что не погибнут, выживут и заживут лучше, чем прежде. Ну или хотя бы не погибнут.
Вихрь подхватил и меня…
Отслужив срочную недалеко от Ленинграда, я был уволен в звании рядового и без больших приключений в середине декабря девяносто первого добрался до родного городка на юге Сибири.
Дорога показалась бесконечно долгой. До того я всего несколько раз ездил на поездах, да и то на небольшие расстояния. А тут — четверо суток.
Вихрь подхватил и меня…
Отслужив срочную недалеко от Ленинграда, я был уволен в звании рядового и без больших приключений в середине декабря девяносто первого добрался до родного городка на юге Сибири.
Дорога показалась бесконечно долгой. До того я всего несколько раз ездил на поездах, да и то на небольшие расстояния. А тут — четверо суток.
Но дело было не в сутках и километрах. Я скорее хотел очутиться дома, вернее, в новой жизни. Она казалась полной возможностей, сулящей свободу, деньги, девушек, ни одну из которых я к своим двадцати годам по-настоящему не узнал. Казалось, стоит только добраться до родного городка, встретиться с приятелями, которые наверняка уже вжились в изменившийся недавно мир…
Понять мою наивность можно — из двух лет в армии полтора года (не считая шести суток в госпитале с ветрянкой) я безвыездно находился на пограничной заставе. Нас там толклось человек пятнадцать-двадцать, варилось в собственном соку (в отпуск отправляли, только если умирали родные), и даже приезд хлебовозки из отряда становился событием, мы расспрашивали водилу, как там, и очень злились, что ничего особенного он не рассказывал. Нам-то представлялось, что вокруг отряда, находящегося на окраине бывшего финского городишки под названием Сортавала, такого же маленького и низкорослого, как и мой родной, кипит эта самая новая жизнь.
Вот ведь она — в телевизоре, готова буквально выплеснуться из экрана в убогую ленинскую комнату с облупившимися стендами на стенах и десятком школьных парт…
После дембеля я три дня прожил в Питере у армейских дружков, уволенных раньше. Пытался зацепиться там, но видел, что у двух дружков уже свои дела, в которые меня не пускают, а третий успел поступить на курсы машинистов поездов метро и смог приютить меня на одну ночь. Ну и все они жили с родителями, условия, как говорится, стеснённые…
И вот вернулся в свой городок. Да, добрался без приключений, но уже на Московском вокзале Петербурга увидел, сколько там бомжей и тех, кого называли беженцами. Беженцы основательно заняли углы в залах ожидания, даже одеяла развесили на каких-то палочках. Жалкие подобия жилищ.
И в поезде я наблюдал людей с печальными лицами, слышал нескончаемые рассказы-жалобы и начал догадываться — везёт в новой жизни единицам. А уж когда встретился с родителями…
В письмах и редких телефонных переговорах — получалось раз пять за службу созвониться — они старались быть бодрыми и ободряли меня, говорили и писали, что у них всё в порядке, иногда присылали денежные переводы, посылки с консервами, печеньем, сигаретами. В общем, я был уверен, а вернее, нафантазировал себе за долгие дни и ночи на заставе, что они вписались в новую жизнь.
Наша семья была в советское время вполне обеспеченной. Двухкомнатная квартира с ковром на стене и хрустальным сервизом в серванте, автомобиль «Москвич-412», гараж, дача — шесть соток с домиком.
Первый ужин меня неприятно поразил. Были соленья, даже бутылка вина, а вот горячее… Ячка и подлива с мелкими кусочками говяжьей брюшины. Жевать эти кусочки было тяжело, поэтому, видимо, мама и порезала их так мелко — чтоб глотать… Ячка что-то мне совсем не шла, и я её не доел.
— Извини, сынок, — мама вздохнула, — другой крупы нет теперь… и макарон никаких. В конце месяца должны выбросить — план-то им надо выполнять.
Тогда, в декабре девяносто первого, ещё думали о выполнении плана.
Я вышел покурить на балкон и увидел замороженные буханки хлеба. И стало страшновато. И стыдно за свои жалобы в письмах: надоела эта гречка, надоела тушёнка.
Дня через два-три я отправился получать талоны на крупу, сахар, ещё многое другое. ЖЭК находился на первом этаже соседней пятиэтажки, хвост очереди был на улице. Хвост длинный. И я его немного удлинил. А вскоре и за мной встали.
Я переминался с ноги на ногу, ёжился из-за сибирского мороза, от которого отвык за два года, и вспоминал заставу, тёплый кубрик, маленькую нашу столовую с окошечком раздачи. Повар подаёт жирные щи, макароны с кусками тушёнки…
Пугаясь этого, я снова хотел там оказаться. Не из-за жратвы, как уверял себя, а из-за той надёжности, что там была.
Да, наряды, иногда тяжёлые — по двадцать с лишним камушков туда и обратно вдоль контрольно-следовой полосы, да, тоска, да, ощущение, что настоящее проходит мимо тебя, но что делать, это, получается, работа, за которую платят едой, одеждой, крышей над головой… Ещё бы отвозили раз в месяц в Сортавалу или девчонок привозили. Хотя бы для разговоров, чтоб полюбоваться. Если уж офицерские жёны (которых мы, впрочем, встречали нечасто, так как жили они в отдельном корпусе) казались нам красавицами, то уж наши-то сверстницы…
Из того, о чём мечтал на заставе, ничего в жизнь не воплощалось. Большая часть одноклассников и одноклассниц разъехалась, остальные не роскошествовали — помочь мне уж точно ничем не могли. Друзья детства, жившие в нашей пятиэтажке и в ближайших домах, в основном куда-то делись, а оставшиеся очень напоминали наркоманов из журнала «Крокодил». Что-то мутили, где-то шакалили. Связываться с ними, я чувствовал, было опасно.
Родители мои дисциплинированно ходили на почти уже безденежную работу. Да и не деньги были главным тогда — главным было раздобыть еду. Поэтому основным моим занятием в те месяцы стал обход магазинов, чтобы отоварить талоны. А магазины стояли пустые, в прямом смысле — хоть шаром покати. Зацепится этот шар разве что о детское питание «Малютка», консервы с морской капустой и банки с берёзовым соком. За несчастными сероватыми рожками мгновенно выстраивалась очередь.
В общем, я попал в мир маленьких людей. Почти все были прибитые, как живой Башмачкин из гоголевской «Шинели», а некоторые — подавшиеся в бандиты — как Башмачкин после смерти, ставший призраком-грабителем… (Да, бандиты были, и не особо скрывали, что они бандиты, но выглядели как пародия на самих себя; со своих тачек снимали глушители, чтобы по рёву на два квартала все понимали, что едут они, крутые, а не кто-то другой.)
Потыкавшись туда-сюда в поисках работы, я нашёл в ящике серванта корочку формовщика второго разряда, которую получил благодаря урокам под названием УПК, и поехал на завод железобетонных изделий.
Помню, меня удивило, что стенд «Приглашаем на работу» перед входом в заводоуправление был пуст. Два года назад там не хватало места… В отделе кадров меня встретили пришибленные Башмачкины обоего пола, и только я заикнулся о поиске работы, замахали, но как-то осторожно, полусогнутыми руками:
— Нет, нет мест. Никого не надо. Извините.
И один, самый пожилой и самый пришибленный, но, видимо, начинавший превращаться в другого, в агрессивного призрака, добавил, кривя рот:
— Вообще закрывать собираются. Нет смысла строить — люди бегут…
Почти семь месяцев я пытался укорениться в родном городке. Подрабатывал то грузчиком, то сторожем в своём же детском саду, то дворником побыл с месяц весной. Много читал, посещал подготовительные курсы в филиале краевого пединститута, но понял, что если даже поступлю, то учиться не буду — не вижу (вернее, тогда не видел) смысла. Родители меня не пилили — понимали, что с работой тяжело, а в милицию, слава богу, устроиться не предлагали.
Но повёл я по отношению к ним себя подловато. Впрочем, иначе не мог. Иначе вполне бы вздёрнулся от безысходности… В общем, я убежал. Подхватил меня вихрь времени, который кружил сотни тысяч людей.
Конечно, я оставил родителям записку, правда, безжалостную: мол, не вижу здесь никакого будущего, может быть, мне повезёт в других местах. Понимал, что они расстроятся, но больше из-за такого моего отъезда — практически бегства, а не потому, что я собственно уехал. К тому же начался дачно-огородный сезон, насажали мы всего много, родители решили продавать овощи, чтоб хоть как-то остановить наше сползание в бедность. Нужно было поливать посадки, и это должен был делать я, относительно свободный. Теперь же пришлось ездить папе после рабочего дня…
Да, я сбежал. Боялся разговора, знал, что родители начнут уговаривать отложить мой отъезд до осени — может, заработаем что-то, поеду не с жалкими своими сбережениями; наверняка будут советовать поступить в институт. Я бы наверняка согласился, вернее, подчинился, а я этого не хотел. Каждый день здесь стал для меня мучением, я физически ощущал, что подыхаю, задыхаюсь, становлюсь всё мельче, ничтожней… Пускай я оказался в числе этого большинства маленьких людей, но необходимо попытаться измениться, вырваться. И я попытался.
В общем, цель у меня была, а плана особого — нет. В рюкзаке лежал блокнот с адресами и номерами телефонов приятелей и знакомых в Омске, Перми, Питере. Я хотел добраться до Питера, всё-таки прибиться к кому-нибудь из тех, с кем служил. Наверняка ведь хотя бы один успел за эти месяцы подняться.
Денег, правда, было с гулькин нос. Я примерно подсчитал — хватало на билеты и самую простую еду, которую ещё надо раздобыть. Не хлебом же одним питаться. А цены в кафе, в вокзальных буфетах такие, что бутерброд в рот не полезет…
В центре нашего городка я обнаружил киоск с кассетами. Аудио, видео. Среди прочего там были альбомы советских рок-групп, продавали музыкальные журналы. Из них я узнал, где собираются неформалы (в Новосибирске, например, возле Театра оперы и балета), что там можно найти вписку — приют или на ночь, или на несколько ночей. И потому первой остановкой стал Новосибирск.
Действительно, возле театра я нашёл там группу панков. Я не походил на панка, да и был взрослее многих, поэтому ко мне отнеслись с подозрением. Но рассказал им о себе и своём решении вырваться из маленького города, не быть как большинство (это панкам понравилось — «большинство это дерьмо»), скинулся на вино, и отношение ко мне стало теплее. Один из парней, по прозвищу Мочегон, согласился пустить меня переночевать — «предки у бабки в деревне».
А утром я снова был на улице, один. Добрался на электричке до Новосибирского академгородка, о котором много слышал и читал. Откуда-то, сложно теперь сказать откуда, узнал, что там летом сдают комнаты в общежитиях. Без проблем снял комнату на двое суток.
Что я там делал двое суток? Наслаждался одиночеством, просторной комнатой, сосновым бором за окном. Гулял по этому бору, заложив руки за спину, словно учёный… А вообще-то я плохо помню те дни своего бегства — не знаю, как другие, а я, совершив рискованный поступок или попав в новую обстановку, погружаюсь в некий полусон, реальность становится не такой реальной, да и я тоже. В таком состоянии я и пребывал тогда.
Через два дня, никого не встретив (а ведь, говорят, бывают судьбоносные встречи), вернулся в Новосибирск, купил билет до Омска. Мочегон рассказывал мне, что по всей стране можно проехать бесплатно, «на собаках» — так называлось передвижение на электричках, — перебегать из вагона в вагон, если появятся контролёры. Но сил выстраивать маршрут, ползти в электричке, которая останавливается на каждой платформе, ждать другую на крошечных вокзальчиках не было.
Восемь часов пути от Новосиба до Омска стали, пожалуй, самым тягостным временем в моей жизни. Был день, за окном однообразная степь; я взял нижнее место, а соседями в моём плацкартном отсеке оказались цыганки с детьми. Детей они подняли на верхние полки, а сами без умолку разговаривали на своём языке. Сначала он меня забавлял, да и цыганки были миловидные, а потом всё стало раздражать. Хотелось лечь, но рядом сидела женщина. Не сгонишь ведь?..
Когда наконец я решил всё-таки занять горизонтальное положение — пусть пересядет к соседке или устроится на краешке, — цыганки взялись за меня:
— Куда едешь, молодой?
— В Омск, — ответил нейтральным тоном, но внутренне холодея от страха — начитался про гипноз, под которым цыгане обчищают людей до копейки.
— Мы тоже. Омск хороший город. А чего у тебя штаны рваные?
Я был в джинсах с протёртыми, но не сильно, коленями. Джинсы эти носил ещё до армии, надел для того, чтобы казаться своим с неформалами.
— Да так… — Объяснять я, конечно, не стал.
— А давай мы тебе новые штаны купим? — сказала одна цыганка и подмигнула другой. Та кивнула:
— Нехорошо в таких, да.
И я ответил с вызовом:
— Купите.
Тут же похвалил себя: молодец, пусть знают, что с меня нечего взять.
Цыганки посмеялись и снова заговорили между собой на своём смешном и раздражающем слух языке. А я снял кроссовки и протянул ноги между стенкой отсека и задом женщины. Улёгся, сунул руку в карман, где было несколько денежных бумажек. Изо всех сил старался заснуть, но не мог. Мешали голоса над ухом, дети, постоянно что-то просящие у матерей, а в основном собственные мысли. Я уже жалел, что уехал. Хотя в Омске было больше шансов зацепиться, чем в Новосибирске.
Вернее, я убеждал себя, что это шансы. Никакие это были не шансы. Ни там, ни там. Просто в Омске жил мой одноклассник Славка Гурьев. (Одноклассник, но давний — уехал в тринадцать лет: отец Славки был офицером.)
Рядом с нашей школой находились так называемые офицерские дома. Жили в них действительно по большей части семьи офицеров. Со мной переучилось бессчётно девочек и мальчиков из тех домов. Никто не задержался на все десять лет — отцов переводили на новое место службы, и жёны с детьми следовали за ними. Три-четыре-пять лет. Даже имена не запомнил.
Единственное исключение — Славка Гурьев. Во-первых, отец его застрял в нашем городке, а вернее, в части рядом с городком, надолго, во-вторых, самое, наверное, важное, Славка был душой класса. И его проводы стали грустным торжеством. Мы принесли еду, газировку, выпустили стенгазету с фотографиями Славки и смешными подписями к ним. После застолья за расставленными буквой «П» партами были танцы. Славка танцевал по очереди с девочками, некоторые прямо приникали к нему…
Потом мы переписывались. И коллективно, и по отдельности. Славка в письмах то радовался новым местам и новым друзьям, то скучал и признавался, что ему одиноко, что живут они в диких местах. Обратные адреса периодически менялись. Не помню их, так как выглядели они как шифры. Видимо, это были воинские части. (Потом и у меня были такие, когда служил в армии.) Но из писем Славки было понятно, что это то север Иркутской области, то восток Забайкалья, то Приморье на самой границе с Китаем.
После моего возвращения со службы наша переписка возобновилась. Славку призвали на полгода позже меня, и я подбадривал его в том духе, что «дембель неизбежен».
Пока Славка служил, его отца уволили из армии, и они с женой кое-как добрались с Дальнего Востока до родных им обоим омских краёв. Туда вернулся и Славка в апреле. И вскоре написал, что занялся бизнесом (но не написал каким), вообще всё у него стало «правильно». Это «правильно» в письмах повторялось постоянно.
Его родителей я хорошо помнил. Мама работала в детском доме, который находился в том же квартале, что и наша школа и офицерские дома. Она была высокой, тонкой женщиной с красивым, но строгим лицом. А отец — настоящий офицер. Плотный, но нисколько не полный, подтянутый, ходящий так, будто чеканит шаг в строю. Пшеничные волосы и такие же усы. Настоящие офицерские усы. Как в фильмах «Тихий Дон», «Хождение по мукам»…
Я часто бывал у Славки дома, иногда встречал там и его отца. Удивлялся, что даже в квартире он в военной форме. Ну или по крайней мере в штанах, напоминавших галифе. Казалось, он в любой момент готов сорваться на задание.
Его часть находилась недалеко от городка, за аэродромом. Два раза Славкин отец устраивал нам экскурсии. Он был тогда лейтенантом или старшим лейтенантом, договаривался, наверное, с командиром. Надо, дескать, приобщать пионеров к делу обороны страны. И мы ещё до уроков НВП держали в руках автоматы, лазали по БМП и БТР… Когда со Славкой играли в солдатики, его отец наблюдал за нами очень серьёзно, будто это какое-нибудь учение, а не игра…
Ну вот к ним я, по сути, и ехал в Омск. К Славке, у которого всё «правильно», к его отцу, который наверняка устроился в гражданской жизни, его жене, судя по моим воспоминаниям, сильной и умной женщине.
У меня был записан адрес, на который я посылал Славке письма в мае-июне. О приезде не сообщал. Сорвался, в общем-то, спонтанно, да и что, как писать? «Приезжаю, встречайте»? Нет, лучше без предупреждения, вроде как по дороге завернуть. Завернуть и осесть.
Теперь уже сложно представить, как я без гугл-карт, смартфона нашёл нужный дом, квартиру.
Открыл Славкин отец. Почти такой же, только… Да, и он был прибитым, и прямая спина теперь стала кругловатой, усы печально обвисли, на щеках щетина. Он с подозрением, что ли, смотрел на меня.
Я представился, напомнил о нашем городке, о школе, о солдатиках на полу.
— А, да, да, — усы его приподнялись, — проходи. Какими судьбами?
— Еду в Ленинград, вот решил Славку повидать, — бодро сказал я.
— Ленинград… Ленинград — это хорошо.
Квартира оказалась крошечной. Малогабаритная однокомнатка. И судя по всему, отец Славки жил здесь один. Моя надежда получить помощь стала слабеть.
Хозяин включил электрочайник. Металлический, советский. Такие закипали очень долго. Мы сидели за столиком на крошечной кухне и ждали. Разговаривать смысла не имело — и так понятно. Но всё же я спросил:
— Как Слава?
— Да ничего… Отслужил… Работает.
— О… — Ответ потянул новый вопрос: — А где?
Он подвигал головой, словно разминая шею:
— По торговле что-то… Сейчас ведь все торговать стали.
Ещё проходя на кухню, я заметил висевший на крючке мундир с погонами капитана. Решил сделать приятное:
— Вы теперь капитан?
Славкин отец усмехнулся:
— Капитан запаса. Уволили по сокращению штатов. Не нужна, объявили, такая большая армия.
— Н-да… Сочувствую. А ваша супруга как?.. Извините, не помню, как зовут.
— Ничего. У моих родителей сейчас, в деревне. Недалеко здесь. Может, и Славка там.
Совсем безысходностью повеяло. Сын неизвестно где, жена наверняка уехала не на один день. А он, глава семейства, здесь. И явно не роскошествует.
Чайник никак не закипал.
— Вы кофе или чай?
— Кофе, — конечно, ответил я; кофе я любил со школы, но пить его получалось не всегда.
— Ну, кофе даже лучше не кипятком.
Пили растворимый индийский кофе. Славкин отец тяготился моим присутствием. А может, вообще всем тем, что его окружало, своим таким положением. Может, думал, где найти Славку — одноклассник к нему приехал, а он чёрт знает где.
За окном смеркалось. Я понимал, что переночевать здесь негде, а куда податься — не представлял. Начиналась паника, которую я сдерживал простой и наивной верой: передо мной взрослый человек, офицер, пусть и запаса теперь, он что-то должен придумать. Удобно ведь внушать себе, что ты слишком молодой и слабый, а есть взрослые и сильные.
— А я в декабре демобилизовался, — сказал я, чтоб стать Славкиному отцу симпатичней.
— Демобилизуют после войны, — поправил он, — если была мобилизация. А вас уволили со срочной службы… Где служили?
— В пограничных войсках. В Карелии.
— И как?
— Нормально. Уже стал немного скучать, — приврал я, хотя действительно с каждым днём вспоминал об армии всё с большей теплотой.
— Да-а. — В глазах хозяина появилось одобрение, и он встряхнулся. — Так, сейчас вечер, Вячеслав с ребятами часто ужинают в ресторане одном… «Сибирские огни». Давайте сходим?
— С удовольствием! — Обрадовала меня не столько перспектива посидеть в ресторане, сколько хоть какой-то проблеск: сейчас придём, а там может быть Славка с ребятами, и меня принимают в свой круг. И я тоже начинаю работать, зарабатывать, снимаю квартиру…
Идти пришлось далековато. Я устал. Ну в общем-то, я давно устал. И двое суток в Академгородке не зарядили энергией. А что может ею зарядить? Уж точно не та неопределённость, в какой я находился после армии. А если покопать, то и много дольше.
Славкин отец был в гражданском. Брюки с расползшимися стрелками, лёгкий вязаный свитер; бриться не стал…
Ресторан размещался на втором этаже двухэтажного здания серой брежневской архитектуры. Даже в то время такие постройки напоминали мне что-то производственное. Но внутри оказалось уютно и одновременно строго. На больших окнах тяжёлые портьеры, столы и стулья массивные, потолки высокие, притушенный свет… До того я в ресторанах-то, кажется, и не бывал. Так, в кафешках, кафетериях. В нашем городке общепита почти и не было — в таких населённых пунктах питаются и выпивают дома.
Зал «Сибирских огней» огромный и пустой. Лишь за двумя или тремя столами сидели тихие парочки.
— Наверное, рано ещё, — сказал Славкин отец, оглядевшись. — Они поздно заканчивают. Бизнесмены, — добавил как-то горько.
К нам подошёл официант. Разглядел нас, лицо стало брезгливым.
— Предложить столик? — всё же спросил.
Славкин отец глянул на меня и сказал:
— Да. И меню.
— Само собой… Пожалуйста.
Нас усадили за стол на двоих недалеко от входа, но и в каком-то полузакутке. Если бы кто-то пришёл в ресторан, мы, непраздничные, вряд ли бы бросились ему в глаза.
Папка меню была тяжёлая, но внутри оказался один лист бумаги. Названия блюд и прочее было отпечатано на машинке. (Ну, это неплохо по тем временам — в столовых от руки часто писали, хрен разберёшь.) Какие именно кушанья предлагались, не помню, цены — тоже. Но они меня напугали. Цены. И я честно сказал, что денег у меня почти нет.
— А как же вы в Ленинград едете? — удивился отец Славки. — Билет уже куплен?
И я стал ему честно рассказывать о своём побеге, о надеждах где-нибудь зацепиться в этой новой жизни.
— Готовы сделать заказ? — появился официант.
— Так точно! — с шутливой интонацией ответил капитан и заказал два то ли антрекота, то ли бифштекса (в общем, по куску мяса) с картофельным пюре (которое оказалось точь-в-точь таким, какое нам давали в детском саду), селёдку с картофелем и графин водки. — Пока всё.
Лицо официанта стало приветливее — видимо, заказ оказался не самым скромным.
— Новая жизнь, говорите, — вздохнул отец Славки. — Я тоже пытаюсь…
И замолчал. В ресторане было тихо, интерьерную музыку тогда ещё не включали. Лишь где-то позвякивали ножи или вилки. Люди за другими столиками ели то ли молча, то ли переговариваясь так, что нам не было слышно. Продолжать свой прерванный рассказ мне не хотелось — сказал, в общем-то, всё, что было нужно. Что я один, без денег, без работы, без будущего. И вот ползу по Транссибу от города к городу в поисках этого будущего.
Тяжело мы молчали, отец Славки сопел, поглядывая направо, налево, только не на меня… Массивная дверь ресторана скрипнула, и он качнулся, глянул, кто там. Наверное, сына ожидал увидеть. Но это был какой-то пожилой человек.
Официант принёс графин, стопки, селёдку, хлеб. Отец Славки обрадовался. Я тоже. Не еде, а тому, что теперь не надо сидеть вот так.
— Давайте за встречу. Многое ваше появление заставило вспомнить.
Выпили. Водку я тогда пил редко, и она сильно обжигала горло. И всегда появлялось подозрение: палёная, технарь, метил… Водкой тогда часто травились.
— Мы ведь всё потеряли, — снова заговорил отец Славки. — Я эту конурку снимаю, жена у моих родителей в Иртыше… деревня такая тут… Слава… сын… Страшными делами он занялся. Я боюсь выяснять, но вижу. Я теперь много чего боюсь. Кто я теперь?.. Капитан запаса. Только никто меня никуда из этого запаса не возьмёт. Сорок четыре года, а что дальше?.. Я никем не могу быть, только офицером. И отец у меня офицер, подполковник, всю войну прошёл, и брат, на два года младше, уже майор, служит, а я вот — до капитана, позор… А теперь и вовсе… Сокращение штатов… Налей.
Я с готовностью налил.
— Славу когда призвали — я радовался. Как раз всё совсем рушиться стало в стране, но у нас в полку нормально было, крепко. Я Славе писал — оставайся на сверхсрочную или в училище поступай, армия последней повалится или спасёт. А тут и в гарнизоне, и… и у нас с женой разлад пошёл… Устала она… Потом увольнение, кое-как добрались досюда через полстраны. И вот второй год не могу никуда… Да и… — Он пристально на меня посмотрел; после двух стопок казался совсем пьяным — так бывает, когда человек измотан, плохо спит, всё время думает о чём-то одном. — Да и не хочу, — сказал тихо, как по секрету. — Я офицер и хочу умереть офицером. В Афган рапорта подавал — не приняли, там просил оставить, хоть на комзвода перевести, но оставить… Но нас всех подчистую… в соответствии с указом от двадцать первого марта восемьдесят девятого. С Китаем у нас замечательные отношения — не нужны стали. И с Европой тоже… Сейчас вон из республик вывозят, даже из автономных. И не хочу слышать про это, читать, а ведь лезет со всех сторон. И что я могу? Ничего не могу…
Я кивал, подливал. Принесли горячее. Отец Славки всё говорил, говорил. Его в прямом смысле прорвало. Видимо, долго ни с кем не общался.
— И Славе, сыну, я что могу… Вижу, что гибнет. Или посадят, или… У нас тут каждый день кого-нибудь с пулей находят… Не дай бог… И когда приходит, я ему начинаю… просить, чтоб осторожней хотя бы, он достаёт из кармана деньги и на стол так небрежно: «Бать, не волнуйся, купи чего вкусного. Всё у меня правильно». И вижу ведь, что денег-то не очень, если б много было, помог бы нам двухкомнатную снять, мать бы вернул… Да нет, это так — форсануть пачечкой, чтоб не мешал я, заткнулся… И раньше, — Славкин отец снова усмехнулся, на этот раз совсем как-то горько, почти по-стариковски, — папой называл, а теперь — «батя»… Вроде и ничего, но пренебрежение чувствую. Хм, да… И ничего не могу… Я-то что, чем ответить?.. Как там говорят?.. Лузер, да?
Я машинально покивал, потом спохватился, хотел как-нибудь ободрить, но передумал. А чего ободрять? Правильно всё.
Славкин отец потыкал мясо и отложил вилку.
— Слушай, лучше тебе с ним не встречаться. Не надо. Ты парень-то нежный, вижу, книжки читать любишь, а они там… Им, хм, не до книжек. Совет могу дать, если хочешь.
— Да, — сказал я вполне искренне, — хочу.
— Там осталось что?
В графине осталось. Хватило по половине стопочек… Выпили. Я закусил мясом, отец Славки не стал.
— Так вот, возвращайся домой. Пережди. Сейчас морок, будто над нами какой-то газ распылили. И мы сорвались с катушек. Не чувствуешь?
После этого вопроса я почувствовал. Действительно. Домой захотелось ещё сильнее.
— Да, — ответил я, — вы правы. Только сейчас понял. То есть почти сразу понял, как поехал, но не хотел себе признаваться. Спасибо.
Отец Славки теперь не усмехнулся, а улыбнулся. Хоть и грустно, но по-доброму. Правда, неумело как-то. Офицеры, наверное, и не должны уметь улыбаться — они должны уметь приказывать. Каждую секунду быть готовыми отдать приказ. Впрочем, отец Славки теперь не офицер, по крайней мере не действующий, а здесь, на гражданке, улыбаться надо. Надо учиться располагать к себе…
Он заказал ещё сто грамм. На посошок. Пока ждали водку и счёт, доели селёдку, мясо, пюре. Потом с чувством чокнулись.
— Поедешь, да? — спросил отец Славки.
— Да. Отсюда на вокзал сразу.
— Правильно… Вот так злит, когда Слава это слово говорит, но тебе говорю: правильно решил.
— Действительно, пережду. Так не должно долго продолжаться.
— Наладится, — подтвердил он. — Спадёт морок. Спадёт. Наладится. Потом смешно будет, за что мы тут друг другу глотки грызли…
— Не все, — перебил-заспорил я. — Вы вот не грызёте.
— Ну, если б моложе был, да не так был воспитан, то мог бы. Скорей всего. А так я, хм, капитан Советской армии в запасе. Теперь её делят, месяца два назад о Вооружённых силах России отдельных объявили… А, — махнул рукой, — я много про это могу. — Взял счёт, посмотрел. — Терпимо. — Достал деньги, отсчитал нужную сумму, положил на счёт; я заметил, что осталось ещё немало. — Ну что, — перевёл взгляд на меня, — поедешь? — Будто гнал уже.
— Поеду, поеду…
— Ночью через нас много поездов на восток идёт.
— Я только вот попросить хотел, — решился я. — Не могли бы дать в долг пятьсот рублей? У меня совсем…
Отец Славки задумался. Но коротко. Видимо, быстро взвесил, что лучше — дать мне пятисотку и отвязаться или продолжать искать Славку, как-то помогать с ночлегом, — и кивнул:
— Конечно. Держи. Считай — дарю.
— Да я вышлю. Адрес есть.
— Ну, как знаешь. Как сложится…
Мы вышли на улицу, уже пустынную, прохладную, с редкими фонарями. Закурили. Сделали по нескольку затяжек.
— Вокзал вон там, — сказал отец Славки. — Прямо иди, там театр увидишь. Налево сверни и по Гагарина, потом по Маркса, и будет вокзал.
— Спасибо.
Я шёл по уснувшему Омску и каждую минуту ожидал, что сейчас появится толпа, меня изобьют, обчистят. И что тогда? Снова идти к бывшему капитану — то есть капитану запаса — и просить о помощи? Унизительно, стыдно… Каждая проезжающая мимо машина казалась мне набитой бандитами. Остановятся, хлопнут битой или просто выстрелят для прикола… Толп не встречалось, сидящим в машинах я был, кажется, неинтересен.
Мне вообще повезло: я купил билет на отходящий через час поезд. Благополучно доехал до дома. Родители встретили меня спокойно — не ругали, не упрекали: они, очевидно, понимали, что со мной делается. Может, если б были моложе, то тоже что-нибудь бы предприняли, но им было под пятьдесят, больше, чем отцу Славки. В таком возрасте срываться тяжело, тем более если есть квартира, дача, гараж…
Я стал жить в основном на даче. Мне понравилось одиночество. Я ходил на речку и ловил ельцов, окуней, иногда на перекатах попадались хариусы. Мы завели кроликов. В общем, и овощи, и рыба, и мясо имелись.
Вскоре у меня появились свободные пятьсот рублей. Хотел выслать переводом Славкиному отцу, но тут понял, что не знаю его имени и отчества. От Славки письма не приходили, сам я не писал. Может, до Славки письма и не дойдут, может, его отец их вскрывать будет. В письме же отправлять банкноту было опасно — люди рассказывали, что пропадали поздравительные открытки в конвертах, наверняка вскрывали на почте и искали там деньги. А затем пятьсот рублей обесценились до смешного… В общем, как-то ушёл в прошлое этот долг, а там подзабылись и мой побег, неудачный и стыдный, и Славка с его отцом.
У нас же потихоньку положение выправлялось. Мы привыкли к тому, что трудно, что нужно полагаться на свои силы, и родители хотя и продолжали ходить на работу, но основную энергию тратили на огород; стали ездить за ягодами и грибами. Торговали ими на одном из множества рынков, что образовались в нашем городке. Чуть ли не на каждом перекрёстке.
На следующий год я поступил в пединститут, через три года уехал в Москву учиться в Литературном институте — пристрастие к чтению развилось до потребности писать рассказы, их стали печатать сначала в местной газете, а потом и в московских изданиях… Я закрепился в Москве, потом укоренился.
Бог послал мне не очень много читателей, но они есть, небольшие тиражи моих книг раскупают, иногда случаются премии. В общем, я доволен. Это поэт должен считать себя самым лучшим, самым талантливым, иначе он и не поэт, а прозаик может сознавать, что он во втором ряду, и радоваться, что в ряду, а не на антресолях.
Теперь мне за пятьдесят, и я всё чаще вспоминаю прошлое. Умерших в нашем обветшавшем городке родителей, одноклассников, никого из которых не видел уже много лет; вспоминаться стал и отец Славки, капитан запаса. Переждал ли он тот вихрь, пережил ли? Ведь он был ещё достаточно молодой. Может, уехал добровольцем в Югославию (тогда многие уезжали), может, завербовался в антидудаевские силы осенью девяносто четвёртого (там, говорят, было много российских офицеров запаса). А может, нашёл себя на гражданке. Может, жив и сейчас и каждый день изучает карты нынешних боевых действий, расстраиваясь и сожалея, что в них не участвует. Ведь запасным, даже давно списанным со счетов, всегда кажется, что, если бы их выпустили на поле, они бы непременно победили…
Вспоминаю я и те пятьсот рублей. Плохо, что не нашёл способ их тогда вернуть.
Понять мою наивность можно — из двух лет в армии полтора года (не считая шести суток в госпитале с ветрянкой) я безвыездно находился на пограничной заставе. Нас там толклось человек пятнадцать-двадцать, варилось в собственном соку (в отпуск отправляли, только если умирали родные), и даже приезд хлебовозки из отряда становился событием, мы расспрашивали водилу, как там, и очень злились, что ничего особенного он не рассказывал. Нам-то представлялось, что вокруг отряда, находящегося на окраине бывшего финского городишки под названием Сортавала, такого же маленького и низкорослого, как и мой родной, кипит эта самая новая жизнь.
Вот ведь она — в телевизоре, готова буквально выплеснуться из экрана в убогую ленинскую комнату с облупившимися стендами на стенах и десятком школьных парт…
После дембеля я три дня прожил в Питере у армейских дружков, уволенных раньше. Пытался зацепиться там, но видел, что у двух дружков уже свои дела, в которые меня не пускают, а третий успел поступить на курсы машинистов поездов метро и смог приютить меня на одну ночь. Ну и все они жили с родителями, условия, как говорится, стеснённые…
И вот вернулся в свой городок. Да, добрался без приключений, но уже на Московском вокзале Петербурга увидел, сколько там бомжей и тех, кого называли беженцами. Беженцы основательно заняли углы в залах ожидания, даже одеяла развесили на каких-то палочках. Жалкие подобия жилищ.
И в поезде я наблюдал людей с печальными лицами, слышал нескончаемые рассказы-жалобы и начал догадываться — везёт в новой жизни единицам. А уж когда встретился с родителями…
В письмах и редких телефонных переговорах — получалось раз пять за службу созвониться — они старались быть бодрыми и ободряли меня, говорили и писали, что у них всё в порядке, иногда присылали денежные переводы, посылки с консервами, печеньем, сигаретами. В общем, я был уверен, а вернее, нафантазировал себе за долгие дни и ночи на заставе, что они вписались в новую жизнь.
Наша семья была в советское время вполне обеспеченной. Двухкомнатная квартира с ковром на стене и хрустальным сервизом в серванте, автомобиль «Москвич-412», гараж, дача — шесть соток с домиком.
Первый ужин меня неприятно поразил. Были соленья, даже бутылка вина, а вот горячее… Ячка и подлива с мелкими кусочками говяжьей брюшины. Жевать эти кусочки было тяжело, поэтому, видимо, мама и порезала их так мелко — чтоб глотать… Ячка что-то мне совсем не шла, и я её не доел.
— Извини, сынок, — мама вздохнула, — другой крупы нет теперь… и макарон никаких. В конце месяца должны выбросить — план-то им надо выполнять.
Тогда, в декабре девяносто первого, ещё думали о выполнении плана.
Я вышел покурить на балкон и увидел замороженные буханки хлеба. И стало страшновато. И стыдно за свои жалобы в письмах: надоела эта гречка, надоела тушёнка.
Дня через два-три я отправился получать талоны на крупу, сахар, ещё многое другое. ЖЭК находился на первом этаже соседней пятиэтажки, хвост очереди был на улице. Хвост длинный. И я его немного удлинил. А вскоре и за мной встали.
Я переминался с ноги на ногу, ёжился из-за сибирского мороза, от которого отвык за два года, и вспоминал заставу, тёплый кубрик, маленькую нашу столовую с окошечком раздачи. Повар подаёт жирные щи, макароны с кусками тушёнки…
Пугаясь этого, я снова хотел там оказаться. Не из-за жратвы, как уверял себя, а из-за той надёжности, что там была.
Да, наряды, иногда тяжёлые — по двадцать с лишним камушков туда и обратно вдоль контрольно-следовой полосы, да, тоска, да, ощущение, что настоящее проходит мимо тебя, но что делать, это, получается, работа, за которую платят едой, одеждой, крышей над головой… Ещё бы отвозили раз в месяц в Сортавалу или девчонок привозили. Хотя бы для разговоров, чтоб полюбоваться. Если уж офицерские жёны (которых мы, впрочем, встречали нечасто, так как жили они в отдельном корпусе) казались нам красавицами, то уж наши-то сверстницы…
Из того, о чём мечтал на заставе, ничего в жизнь не воплощалось. Большая часть одноклассников и одноклассниц разъехалась, остальные не роскошествовали — помочь мне уж точно ничем не могли. Друзья детства, жившие в нашей пятиэтажке и в ближайших домах, в основном куда-то делись, а оставшиеся очень напоминали наркоманов из журнала «Крокодил». Что-то мутили, где-то шакалили. Связываться с ними, я чувствовал, было опасно.
Родители мои дисциплинированно ходили на почти уже безденежную работу. Да и не деньги были главным тогда — главным было раздобыть еду. Поэтому основным моим занятием в те месяцы стал обход магазинов, чтобы отоварить талоны. А магазины стояли пустые, в прямом смысле — хоть шаром покати. Зацепится этот шар разве что о детское питание «Малютка», консервы с морской капустой и банки с берёзовым соком. За несчастными сероватыми рожками мгновенно выстраивалась очередь.
В общем, я попал в мир маленьких людей. Почти все были прибитые, как живой Башмачкин из гоголевской «Шинели», а некоторые — подавшиеся в бандиты — как Башмачкин после смерти, ставший призраком-грабителем… (Да, бандиты были, и не особо скрывали, что они бандиты, но выглядели как пародия на самих себя; со своих тачек снимали глушители, чтобы по рёву на два квартала все понимали, что едут они, крутые, а не кто-то другой.)
Потыкавшись туда-сюда в поисках работы, я нашёл в ящике серванта корочку формовщика второго разряда, которую получил благодаря урокам под названием УПК, и поехал на завод железобетонных изделий.
Помню, меня удивило, что стенд «Приглашаем на работу» перед входом в заводоуправление был пуст. Два года назад там не хватало места… В отделе кадров меня встретили пришибленные Башмачкины обоего пола, и только я заикнулся о поиске работы, замахали, но как-то осторожно, полусогнутыми руками:
— Нет, нет мест. Никого не надо. Извините.
И один, самый пожилой и самый пришибленный, но, видимо, начинавший превращаться в другого, в агрессивного призрака, добавил, кривя рот:
— Вообще закрывать собираются. Нет смысла строить — люди бегут…
Почти семь месяцев я пытался укорениться в родном городке. Подрабатывал то грузчиком, то сторожем в своём же детском саду, то дворником побыл с месяц весной. Много читал, посещал подготовительные курсы в филиале краевого пединститута, но понял, что если даже поступлю, то учиться не буду — не вижу (вернее, тогда не видел) смысла. Родители меня не пилили — понимали, что с работой тяжело, а в милицию, слава богу, устроиться не предлагали.
Но повёл я по отношению к ним себя подловато. Впрочем, иначе не мог. Иначе вполне бы вздёрнулся от безысходности… В общем, я убежал. Подхватил меня вихрь времени, который кружил сотни тысяч людей.
Конечно, я оставил родителям записку, правда, безжалостную: мол, не вижу здесь никакого будущего, может быть, мне повезёт в других местах. Понимал, что они расстроятся, но больше из-за такого моего отъезда — практически бегства, а не потому, что я собственно уехал. К тому же начался дачно-огородный сезон, насажали мы всего много, родители решили продавать овощи, чтоб хоть как-то остановить наше сползание в бедность. Нужно было поливать посадки, и это должен был делать я, относительно свободный. Теперь же пришлось ездить папе после рабочего дня…
Да, я сбежал. Боялся разговора, знал, что родители начнут уговаривать отложить мой отъезд до осени — может, заработаем что-то, поеду не с жалкими своими сбережениями; наверняка будут советовать поступить в институт. Я бы наверняка согласился, вернее, подчинился, а я этого не хотел. Каждый день здесь стал для меня мучением, я физически ощущал, что подыхаю, задыхаюсь, становлюсь всё мельче, ничтожней… Пускай я оказался в числе этого большинства маленьких людей, но необходимо попытаться измениться, вырваться. И я попытался.
В общем, цель у меня была, а плана особого — нет. В рюкзаке лежал блокнот с адресами и номерами телефонов приятелей и знакомых в Омске, Перми, Питере. Я хотел добраться до Питера, всё-таки прибиться к кому-нибудь из тех, с кем служил. Наверняка ведь хотя бы один успел за эти месяцы подняться.
Денег, правда, было с гулькин нос. Я примерно подсчитал — хватало на билеты и самую простую еду, которую ещё надо раздобыть. Не хлебом же одним питаться. А цены в кафе, в вокзальных буфетах такие, что бутерброд в рот не полезет…
В центре нашего городка я обнаружил киоск с кассетами. Аудио, видео. Среди прочего там были альбомы советских рок-групп, продавали музыкальные журналы. Из них я узнал, где собираются неформалы (в Новосибирске, например, возле Театра оперы и балета), что там можно найти вписку — приют или на ночь, или на несколько ночей. И потому первой остановкой стал Новосибирск.
Действительно, возле театра я нашёл там группу панков. Я не походил на панка, да и был взрослее многих, поэтому ко мне отнеслись с подозрением. Но рассказал им о себе и своём решении вырваться из маленького города, не быть как большинство (это панкам понравилось — «большинство это дерьмо»), скинулся на вино, и отношение ко мне стало теплее. Один из парней, по прозвищу Мочегон, согласился пустить меня переночевать — «предки у бабки в деревне».
А утром я снова был на улице, один. Добрался на электричке до Новосибирского академгородка, о котором много слышал и читал. Откуда-то, сложно теперь сказать откуда, узнал, что там летом сдают комнаты в общежитиях. Без проблем снял комнату на двое суток.
Что я там делал двое суток? Наслаждался одиночеством, просторной комнатой, сосновым бором за окном. Гулял по этому бору, заложив руки за спину, словно учёный… А вообще-то я плохо помню те дни своего бегства — не знаю, как другие, а я, совершив рискованный поступок или попав в новую обстановку, погружаюсь в некий полусон, реальность становится не такой реальной, да и я тоже. В таком состоянии я и пребывал тогда.
Через два дня, никого не встретив (а ведь, говорят, бывают судьбоносные встречи), вернулся в Новосибирск, купил билет до Омска. Мочегон рассказывал мне, что по всей стране можно проехать бесплатно, «на собаках» — так называлось передвижение на электричках, — перебегать из вагона в вагон, если появятся контролёры. Но сил выстраивать маршрут, ползти в электричке, которая останавливается на каждой платформе, ждать другую на крошечных вокзальчиках не было.
Восемь часов пути от Новосиба до Омска стали, пожалуй, самым тягостным временем в моей жизни. Был день, за окном однообразная степь; я взял нижнее место, а соседями в моём плацкартном отсеке оказались цыганки с детьми. Детей они подняли на верхние полки, а сами без умолку разговаривали на своём языке. Сначала он меня забавлял, да и цыганки были миловидные, а потом всё стало раздражать. Хотелось лечь, но рядом сидела женщина. Не сгонишь ведь?..
Когда наконец я решил всё-таки занять горизонтальное положение — пусть пересядет к соседке или устроится на краешке, — цыганки взялись за меня:
— Куда едешь, молодой?
— В Омск, — ответил нейтральным тоном, но внутренне холодея от страха — начитался про гипноз, под которым цыгане обчищают людей до копейки.
— Мы тоже. Омск хороший город. А чего у тебя штаны рваные?
Я был в джинсах с протёртыми, но не сильно, коленями. Джинсы эти носил ещё до армии, надел для того, чтобы казаться своим с неформалами.
— Да так… — Объяснять я, конечно, не стал.
— А давай мы тебе новые штаны купим? — сказала одна цыганка и подмигнула другой. Та кивнула:
— Нехорошо в таких, да.
И я ответил с вызовом:
— Купите.
Тут же похвалил себя: молодец, пусть знают, что с меня нечего взять.
Цыганки посмеялись и снова заговорили между собой на своём смешном и раздражающем слух языке. А я снял кроссовки и протянул ноги между стенкой отсека и задом женщины. Улёгся, сунул руку в карман, где было несколько денежных бумажек. Изо всех сил старался заснуть, но не мог. Мешали голоса над ухом, дети, постоянно что-то просящие у матерей, а в основном собственные мысли. Я уже жалел, что уехал. Хотя в Омске было больше шансов зацепиться, чем в Новосибирске.
Вернее, я убеждал себя, что это шансы. Никакие это были не шансы. Ни там, ни там. Просто в Омске жил мой одноклассник Славка Гурьев. (Одноклассник, но давний — уехал в тринадцать лет: отец Славки был офицером.)
Рядом с нашей школой находились так называемые офицерские дома. Жили в них действительно по большей части семьи офицеров. Со мной переучилось бессчётно девочек и мальчиков из тех домов. Никто не задержался на все десять лет — отцов переводили на новое место службы, и жёны с детьми следовали за ними. Три-четыре-пять лет. Даже имена не запомнил.
Единственное исключение — Славка Гурьев. Во-первых, отец его застрял в нашем городке, а вернее, в части рядом с городком, надолго, во-вторых, самое, наверное, важное, Славка был душой класса. И его проводы стали грустным торжеством. Мы принесли еду, газировку, выпустили стенгазету с фотографиями Славки и смешными подписями к ним. После застолья за расставленными буквой «П» партами были танцы. Славка танцевал по очереди с девочками, некоторые прямо приникали к нему…
Потом мы переписывались. И коллективно, и по отдельности. Славка в письмах то радовался новым местам и новым друзьям, то скучал и признавался, что ему одиноко, что живут они в диких местах. Обратные адреса периодически менялись. Не помню их, так как выглядели они как шифры. Видимо, это были воинские части. (Потом и у меня были такие, когда служил в армии.) Но из писем Славки было понятно, что это то север Иркутской области, то восток Забайкалья, то Приморье на самой границе с Китаем.
После моего возвращения со службы наша переписка возобновилась. Славку призвали на полгода позже меня, и я подбадривал его в том духе, что «дембель неизбежен».
Пока Славка служил, его отца уволили из армии, и они с женой кое-как добрались с Дальнего Востока до родных им обоим омских краёв. Туда вернулся и Славка в апреле. И вскоре написал, что занялся бизнесом (но не написал каким), вообще всё у него стало «правильно». Это «правильно» в письмах повторялось постоянно.
Его родителей я хорошо помнил. Мама работала в детском доме, который находился в том же квартале, что и наша школа и офицерские дома. Она была высокой, тонкой женщиной с красивым, но строгим лицом. А отец — настоящий офицер. Плотный, но нисколько не полный, подтянутый, ходящий так, будто чеканит шаг в строю. Пшеничные волосы и такие же усы. Настоящие офицерские усы. Как в фильмах «Тихий Дон», «Хождение по мукам»…
Я часто бывал у Славки дома, иногда встречал там и его отца. Удивлялся, что даже в квартире он в военной форме. Ну или по крайней мере в штанах, напоминавших галифе. Казалось, он в любой момент готов сорваться на задание.
Его часть находилась недалеко от городка, за аэродромом. Два раза Славкин отец устраивал нам экскурсии. Он был тогда лейтенантом или старшим лейтенантом, договаривался, наверное, с командиром. Надо, дескать, приобщать пионеров к делу обороны страны. И мы ещё до уроков НВП держали в руках автоматы, лазали по БМП и БТР… Когда со Славкой играли в солдатики, его отец наблюдал за нами очень серьёзно, будто это какое-нибудь учение, а не игра…
Ну вот к ним я, по сути, и ехал в Омск. К Славке, у которого всё «правильно», к его отцу, который наверняка устроился в гражданской жизни, его жене, судя по моим воспоминаниям, сильной и умной женщине.
У меня был записан адрес, на который я посылал Славке письма в мае-июне. О приезде не сообщал. Сорвался, в общем-то, спонтанно, да и что, как писать? «Приезжаю, встречайте»? Нет, лучше без предупреждения, вроде как по дороге завернуть. Завернуть и осесть.
Теперь уже сложно представить, как я без гугл-карт, смартфона нашёл нужный дом, квартиру.
Открыл Славкин отец. Почти такой же, только… Да, и он был прибитым, и прямая спина теперь стала кругловатой, усы печально обвисли, на щеках щетина. Он с подозрением, что ли, смотрел на меня.
Я представился, напомнил о нашем городке, о школе, о солдатиках на полу.
— А, да, да, — усы его приподнялись, — проходи. Какими судьбами?
— Еду в Ленинград, вот решил Славку повидать, — бодро сказал я.
— Ленинград… Ленинград — это хорошо.
Квартира оказалась крошечной. Малогабаритная однокомнатка. И судя по всему, отец Славки жил здесь один. Моя надежда получить помощь стала слабеть.
Хозяин включил электрочайник. Металлический, советский. Такие закипали очень долго. Мы сидели за столиком на крошечной кухне и ждали. Разговаривать смысла не имело — и так понятно. Но всё же я спросил:
— Как Слава?
— Да ничего… Отслужил… Работает.
— О… — Ответ потянул новый вопрос: — А где?
Он подвигал головой, словно разминая шею:
— По торговле что-то… Сейчас ведь все торговать стали.
Ещё проходя на кухню, я заметил висевший на крючке мундир с погонами капитана. Решил сделать приятное:
— Вы теперь капитан?
Славкин отец усмехнулся:
— Капитан запаса. Уволили по сокращению штатов. Не нужна, объявили, такая большая армия.
— Н-да… Сочувствую. А ваша супруга как?.. Извините, не помню, как зовут.
— Ничего. У моих родителей сейчас, в деревне. Недалеко здесь. Может, и Славка там.
Совсем безысходностью повеяло. Сын неизвестно где, жена наверняка уехала не на один день. А он, глава семейства, здесь. И явно не роскошествует.
Чайник никак не закипал.
— Вы кофе или чай?
— Кофе, — конечно, ответил я; кофе я любил со школы, но пить его получалось не всегда.
— Ну, кофе даже лучше не кипятком.
Пили растворимый индийский кофе. Славкин отец тяготился моим присутствием. А может, вообще всем тем, что его окружало, своим таким положением. Может, думал, где найти Славку — одноклассник к нему приехал, а он чёрт знает где.
За окном смеркалось. Я понимал, что переночевать здесь негде, а куда податься — не представлял. Начиналась паника, которую я сдерживал простой и наивной верой: передо мной взрослый человек, офицер, пусть и запаса теперь, он что-то должен придумать. Удобно ведь внушать себе, что ты слишком молодой и слабый, а есть взрослые и сильные.
— А я в декабре демобилизовался, — сказал я, чтоб стать Славкиному отцу симпатичней.
— Демобилизуют после войны, — поправил он, — если была мобилизация. А вас уволили со срочной службы… Где служили?
— В пограничных войсках. В Карелии.
— И как?
— Нормально. Уже стал немного скучать, — приврал я, хотя действительно с каждым днём вспоминал об армии всё с большей теплотой.
— Да-а. — В глазах хозяина появилось одобрение, и он встряхнулся. — Так, сейчас вечер, Вячеслав с ребятами часто ужинают в ресторане одном… «Сибирские огни». Давайте сходим?
— С удовольствием! — Обрадовала меня не столько перспектива посидеть в ресторане, сколько хоть какой-то проблеск: сейчас придём, а там может быть Славка с ребятами, и меня принимают в свой круг. И я тоже начинаю работать, зарабатывать, снимаю квартиру…
Идти пришлось далековато. Я устал. Ну в общем-то, я давно устал. И двое суток в Академгородке не зарядили энергией. А что может ею зарядить? Уж точно не та неопределённость, в какой я находился после армии. А если покопать, то и много дольше.
Славкин отец был в гражданском. Брюки с расползшимися стрелками, лёгкий вязаный свитер; бриться не стал…
Ресторан размещался на втором этаже двухэтажного здания серой брежневской архитектуры. Даже в то время такие постройки напоминали мне что-то производственное. Но внутри оказалось уютно и одновременно строго. На больших окнах тяжёлые портьеры, столы и стулья массивные, потолки высокие, притушенный свет… До того я в ресторанах-то, кажется, и не бывал. Так, в кафешках, кафетериях. В нашем городке общепита почти и не было — в таких населённых пунктах питаются и выпивают дома.
Зал «Сибирских огней» огромный и пустой. Лишь за двумя или тремя столами сидели тихие парочки.
— Наверное, рано ещё, — сказал Славкин отец, оглядевшись. — Они поздно заканчивают. Бизнесмены, — добавил как-то горько.
К нам подошёл официант. Разглядел нас, лицо стало брезгливым.
— Предложить столик? — всё же спросил.
Славкин отец глянул на меня и сказал:
— Да. И меню.
— Само собой… Пожалуйста.
Нас усадили за стол на двоих недалеко от входа, но и в каком-то полузакутке. Если бы кто-то пришёл в ресторан, мы, непраздничные, вряд ли бы бросились ему в глаза.
Папка меню была тяжёлая, но внутри оказался один лист бумаги. Названия блюд и прочее было отпечатано на машинке. (Ну, это неплохо по тем временам — в столовых от руки часто писали, хрен разберёшь.) Какие именно кушанья предлагались, не помню, цены — тоже. Но они меня напугали. Цены. И я честно сказал, что денег у меня почти нет.
— А как же вы в Ленинград едете? — удивился отец Славки. — Билет уже куплен?
И я стал ему честно рассказывать о своём побеге, о надеждах где-нибудь зацепиться в этой новой жизни.
— Готовы сделать заказ? — появился официант.
— Так точно! — с шутливой интонацией ответил капитан и заказал два то ли антрекота, то ли бифштекса (в общем, по куску мяса) с картофельным пюре (которое оказалось точь-в-точь таким, какое нам давали в детском саду), селёдку с картофелем и графин водки. — Пока всё.
Лицо официанта стало приветливее — видимо, заказ оказался не самым скромным.
— Новая жизнь, говорите, — вздохнул отец Славки. — Я тоже пытаюсь…
И замолчал. В ресторане было тихо, интерьерную музыку тогда ещё не включали. Лишь где-то позвякивали ножи или вилки. Люди за другими столиками ели то ли молча, то ли переговариваясь так, что нам не было слышно. Продолжать свой прерванный рассказ мне не хотелось — сказал, в общем-то, всё, что было нужно. Что я один, без денег, без работы, без будущего. И вот ползу по Транссибу от города к городу в поисках этого будущего.
Тяжело мы молчали, отец Славки сопел, поглядывая направо, налево, только не на меня… Массивная дверь ресторана скрипнула, и он качнулся, глянул, кто там. Наверное, сына ожидал увидеть. Но это был какой-то пожилой человек.
Официант принёс графин, стопки, селёдку, хлеб. Отец Славки обрадовался. Я тоже. Не еде, а тому, что теперь не надо сидеть вот так.
— Давайте за встречу. Многое ваше появление заставило вспомнить.
Выпили. Водку я тогда пил редко, и она сильно обжигала горло. И всегда появлялось подозрение: палёная, технарь, метил… Водкой тогда часто травились.
— Мы ведь всё потеряли, — снова заговорил отец Славки. — Я эту конурку снимаю, жена у моих родителей в Иртыше… деревня такая тут… Слава… сын… Страшными делами он занялся. Я боюсь выяснять, но вижу. Я теперь много чего боюсь. Кто я теперь?.. Капитан запаса. Только никто меня никуда из этого запаса не возьмёт. Сорок четыре года, а что дальше?.. Я никем не могу быть, только офицером. И отец у меня офицер, подполковник, всю войну прошёл, и брат, на два года младше, уже майор, служит, а я вот — до капитана, позор… А теперь и вовсе… Сокращение штатов… Налей.
Я с готовностью налил.
— Славу когда призвали — я радовался. Как раз всё совсем рушиться стало в стране, но у нас в полку нормально было, крепко. Я Славе писал — оставайся на сверхсрочную или в училище поступай, армия последней повалится или спасёт. А тут и в гарнизоне, и… и у нас с женой разлад пошёл… Устала она… Потом увольнение, кое-как добрались досюда через полстраны. И вот второй год не могу никуда… Да и… — Он пристально на меня посмотрел; после двух стопок казался совсем пьяным — так бывает, когда человек измотан, плохо спит, всё время думает о чём-то одном. — Да и не хочу, — сказал тихо, как по секрету. — Я офицер и хочу умереть офицером. В Афган рапорта подавал — не приняли, там просил оставить, хоть на комзвода перевести, но оставить… Но нас всех подчистую… в соответствии с указом от двадцать первого марта восемьдесят девятого. С Китаем у нас замечательные отношения — не нужны стали. И с Европой тоже… Сейчас вон из республик вывозят, даже из автономных. И не хочу слышать про это, читать, а ведь лезет со всех сторон. И что я могу? Ничего не могу…
Я кивал, подливал. Принесли горячее. Отец Славки всё говорил, говорил. Его в прямом смысле прорвало. Видимо, долго ни с кем не общался.
— И Славе, сыну, я что могу… Вижу, что гибнет. Или посадят, или… У нас тут каждый день кого-нибудь с пулей находят… Не дай бог… И когда приходит, я ему начинаю… просить, чтоб осторожней хотя бы, он достаёт из кармана деньги и на стол так небрежно: «Бать, не волнуйся, купи чего вкусного. Всё у меня правильно». И вижу ведь, что денег-то не очень, если б много было, помог бы нам двухкомнатную снять, мать бы вернул… Да нет, это так — форсануть пачечкой, чтоб не мешал я, заткнулся… И раньше, — Славкин отец снова усмехнулся, на этот раз совсем как-то горько, почти по-стариковски, — папой называл, а теперь — «батя»… Вроде и ничего, но пренебрежение чувствую. Хм, да… И ничего не могу… Я-то что, чем ответить?.. Как там говорят?.. Лузер, да?
Я машинально покивал, потом спохватился, хотел как-нибудь ободрить, но передумал. А чего ободрять? Правильно всё.
Славкин отец потыкал мясо и отложил вилку.
— Слушай, лучше тебе с ним не встречаться. Не надо. Ты парень-то нежный, вижу, книжки читать любишь, а они там… Им, хм, не до книжек. Совет могу дать, если хочешь.
— Да, — сказал я вполне искренне, — хочу.
— Там осталось что?
В графине осталось. Хватило по половине стопочек… Выпили. Я закусил мясом, отец Славки не стал.
— Так вот, возвращайся домой. Пережди. Сейчас морок, будто над нами какой-то газ распылили. И мы сорвались с катушек. Не чувствуешь?
После этого вопроса я почувствовал. Действительно. Домой захотелось ещё сильнее.
— Да, — ответил я, — вы правы. Только сейчас понял. То есть почти сразу понял, как поехал, но не хотел себе признаваться. Спасибо.
Отец Славки теперь не усмехнулся, а улыбнулся. Хоть и грустно, но по-доброму. Правда, неумело как-то. Офицеры, наверное, и не должны уметь улыбаться — они должны уметь приказывать. Каждую секунду быть готовыми отдать приказ. Впрочем, отец Славки теперь не офицер, по крайней мере не действующий, а здесь, на гражданке, улыбаться надо. Надо учиться располагать к себе…
Он заказал ещё сто грамм. На посошок. Пока ждали водку и счёт, доели селёдку, мясо, пюре. Потом с чувством чокнулись.
— Поедешь, да? — спросил отец Славки.
— Да. Отсюда на вокзал сразу.
— Правильно… Вот так злит, когда Слава это слово говорит, но тебе говорю: правильно решил.
— Действительно, пережду. Так не должно долго продолжаться.
— Наладится, — подтвердил он. — Спадёт морок. Спадёт. Наладится. Потом смешно будет, за что мы тут друг другу глотки грызли…
— Не все, — перебил-заспорил я. — Вы вот не грызёте.
— Ну, если б моложе был, да не так был воспитан, то мог бы. Скорей всего. А так я, хм, капитан Советской армии в запасе. Теперь её делят, месяца два назад о Вооружённых силах России отдельных объявили… А, — махнул рукой, — я много про это могу. — Взял счёт, посмотрел. — Терпимо. — Достал деньги, отсчитал нужную сумму, положил на счёт; я заметил, что осталось ещё немало. — Ну что, — перевёл взгляд на меня, — поедешь? — Будто гнал уже.
— Поеду, поеду…
— Ночью через нас много поездов на восток идёт.
— Я только вот попросить хотел, — решился я. — Не могли бы дать в долг пятьсот рублей? У меня совсем…
Отец Славки задумался. Но коротко. Видимо, быстро взвесил, что лучше — дать мне пятисотку и отвязаться или продолжать искать Славку, как-то помогать с ночлегом, — и кивнул:
— Конечно. Держи. Считай — дарю.
— Да я вышлю. Адрес есть.
— Ну, как знаешь. Как сложится…
Мы вышли на улицу, уже пустынную, прохладную, с редкими фонарями. Закурили. Сделали по нескольку затяжек.
— Вокзал вон там, — сказал отец Славки. — Прямо иди, там театр увидишь. Налево сверни и по Гагарина, потом по Маркса, и будет вокзал.
— Спасибо.
Я шёл по уснувшему Омску и каждую минуту ожидал, что сейчас появится толпа, меня изобьют, обчистят. И что тогда? Снова идти к бывшему капитану — то есть капитану запаса — и просить о помощи? Унизительно, стыдно… Каждая проезжающая мимо машина казалась мне набитой бандитами. Остановятся, хлопнут битой или просто выстрелят для прикола… Толп не встречалось, сидящим в машинах я был, кажется, неинтересен.
Мне вообще повезло: я купил билет на отходящий через час поезд. Благополучно доехал до дома. Родители встретили меня спокойно — не ругали, не упрекали: они, очевидно, понимали, что со мной делается. Может, если б были моложе, то тоже что-нибудь бы предприняли, но им было под пятьдесят, больше, чем отцу Славки. В таком возрасте срываться тяжело, тем более если есть квартира, дача, гараж…
Я стал жить в основном на даче. Мне понравилось одиночество. Я ходил на речку и ловил ельцов, окуней, иногда на перекатах попадались хариусы. Мы завели кроликов. В общем, и овощи, и рыба, и мясо имелись.
Вскоре у меня появились свободные пятьсот рублей. Хотел выслать переводом Славкиному отцу, но тут понял, что не знаю его имени и отчества. От Славки письма не приходили, сам я не писал. Может, до Славки письма и не дойдут, может, его отец их вскрывать будет. В письме же отправлять банкноту было опасно — люди рассказывали, что пропадали поздравительные открытки в конвертах, наверняка вскрывали на почте и искали там деньги. А затем пятьсот рублей обесценились до смешного… В общем, как-то ушёл в прошлое этот долг, а там подзабылись и мой побег, неудачный и стыдный, и Славка с его отцом.
У нас же потихоньку положение выправлялось. Мы привыкли к тому, что трудно, что нужно полагаться на свои силы, и родители хотя и продолжали ходить на работу, но основную энергию тратили на огород; стали ездить за ягодами и грибами. Торговали ими на одном из множества рынков, что образовались в нашем городке. Чуть ли не на каждом перекрёстке.
На следующий год я поступил в пединститут, через три года уехал в Москву учиться в Литературном институте — пристрастие к чтению развилось до потребности писать рассказы, их стали печатать сначала в местной газете, а потом и в московских изданиях… Я закрепился в Москве, потом укоренился.
Бог послал мне не очень много читателей, но они есть, небольшие тиражи моих книг раскупают, иногда случаются премии. В общем, я доволен. Это поэт должен считать себя самым лучшим, самым талантливым, иначе он и не поэт, а прозаик может сознавать, что он во втором ряду, и радоваться, что в ряду, а не на антресолях.
Теперь мне за пятьдесят, и я всё чаще вспоминаю прошлое. Умерших в нашем обветшавшем городке родителей, одноклассников, никого из которых не видел уже много лет; вспоминаться стал и отец Славки, капитан запаса. Переждал ли он тот вихрь, пережил ли? Ведь он был ещё достаточно молодой. Может, уехал добровольцем в Югославию (тогда многие уезжали), может, завербовался в антидудаевские силы осенью девяносто четвёртого (там, говорят, было много российских офицеров запаса). А может, нашёл себя на гражданке. Может, жив и сейчас и каждый день изучает карты нынешних боевых действий, расстраиваясь и сожалея, что в них не участвует. Ведь запасным, даже давно списанным со счетов, всегда кажется, что, если бы их выпустили на поле, они бы непременно победили…
Вспоминаю я и те пятьсот рублей. Плохо, что не нашёл способ их тогда вернуть.

режиссёр, дважды лауреат «Золотой маски», преподаватель Школы-студии МХАТ
Виктор Рыжаков

Над проектом работали:
Мария Брисенко, Инна Маркова, Мария Привалова,
Алина Саулова, Елизавета Шипкова, Екатерина Фадейкина, Анатолий Соломатин, Виталий Кулаков
Алина Саулова, Елизавета Шипкова, Екатерина Фадейкина, Анатолий Соломатин, Виталий Кулаков

Прочитать и послушать сборник можно в сервисе «Строки» от МТС